Исследования по тегу #генетика

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.
В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.
Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.
Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.
Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.
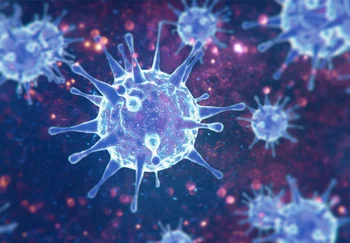
Когда вирусы не прощают: как мыши доказали, что последствия простуды могут быть куда хуже, чем кажется
Недавнее исследование показало: возможно, ловко выкрутившись из какой-нибудь вирусной заразы сегодня, вы всё же оставляете кредитку с огромным долгом на своё будущее здоровье. Учёные обнаружили, что у определённых генетических линий мышей—именно тех, что были выведены с размахом ради максимального разнообразия—после успешно побеждённой инфекции начинается такое «веселье», о котором и злейший враг не пожелает: развивается болезнь, подозрительно похожая на БАС (боковой амиотрофический склероз). Это одно из самых загадочных и жестоких неврологических состояний, для которого слабость мышц — только самое начало пути в никуда, а финалом становится паралич и остановка дыхания. Так вот, страдали эти мыши от бедственного положения моторных нейронов в спинном мозге. Инфекция вроде бы прошла, но жизнь к ним так и не вернулась. Виновником выбрали вирус Theiler’s murine encephalomyelitis virus (TMEV) — классический объект для настоящих изысков в мире лабораторных грызунов. Правда, на этот раз его использовали не просто чтобы «погонять болезнь», а чтобы разобраться, как разные гены подставляют своих хозяев. Ведь у людей далеко не все болеют одинаково: одному простой насморк, другому — новый диагноз в карту. Группа под руководством Кейди С. Лоули и Кэндис Бринкмейер-Лэнгфорд (Texas A&M University) отобрала пять разных мышиных родов из масштабного проекта Collaborative Cross — самой генной солянки из всего, что можно наскрести. Всем мышам вкололи тот же самый вирус. Нет, не очередная итальянская сказка про «они все были равны» — различия в итоге всплыли такие, что итальянцам и не снились. В течение трёх месяцев учёные отслеживали здоровье своих подопытных: смотрели, как они двигаются и что творится в их спинном мозге под микроскопом. На ранней стадии, когда иммунная система только начинала врубаться, вирус атаковал поясничный отдел — именно тот сегмент, который управляет задними конечностями. Неудивительно, что часть мышей сразу пошла не в ту сторону: кто-то прихрамывал, кто-то вообще отказывался двигаться. При этом у некоторых симптомы были слабее, у других — словно после сеанса экзорцизма. Генетика откровенно плевала на универсальные инструкции природы: каждый рецидивировал, как хотел. Дальше — интереснее. Прошло бензопилой по времени девяносто дней, вируса в спинном мозге не осталось даже следа — учёные проверили каждую мышиную душу, даже вирусная РНК испарилась. В большинстве семей ситуация устаканилась: воспаление сошло на нет, жизнь вроде бы вернулась в привычное русло. Но не тут-то было. В одной линии — знакомьтесь, CC023 — после победы над инфекцией мыши остались в положении «спасибо, теперь доживаем, как получится». У них началась настоящая мышечная дистрофия, спина сгорбилась не хуже, чем у учительницы первого класса в канун нового учебного года (в мире грызунов это называется кифоз). А под микроскопом творился натуральный саботаж: ключевые двигательные нейроны как будто кто-то выжег паяльником. Отсюда мышечная слабость и вся та мерзость, за которую в медицине любят слово «необратимо». На их фоне другая линия — CC027 — вообще будто и не пришла на ту же вечеринку: никаких признаков, ни слабости, ни воспаления, ни даже минимального дискомфорта. Генетика работала словно бронежилет, навеянный мечтой любого имунолога. И вот здесь возникает главный вопрос: Что если в человеческой популяции всё примерно так же, и одному простое ОРВИ сходит с рук, а другому через пару лет прилетает подарок — премиум-версия нейродегенеративного заболевания? Всё это поддерживает теорию «ударил и убежал»: вирус когда-то погостил в организме, иммунная система его загнала — а колесо болезни продолжает крутиться даже без шипящего гостя. Более того, у мышей из линии CC023 долгосрочные беды совсем не объяснялись хроническим воспалением, которого больше не наблюдали. Выходит, первый удар — это просто стартовый пинок, а организм дальше успешно сам себя добивает. По словам Кэндис Бринкмейер-Лэнгфорд, теперь у науки есть первая реально работающая животная модель, которая доказывает: не все вирусы отпускают без последствий, и иногда выживший остаётся с кузовным ремонтом навсегда. Кстати, классические препараты для БАС создаются на основе искусственных мутаций, которые вообще встречаются лишь у ничтожного процента пациентов. Совсем не то, что показывают мыши CC023 — у них беда происходит после атаки внешней угрозы, как это часто случается у людей без чёткой наследственной предрасположенности. Минусы тоже есть. Всё-таки мыши — это не люди, и мы ещё не знаем, какие конкретно гены в линии CC023 показали себя особо артистично. Следующий этап — выяснить, что именно не сработало в иммунном ответе. Если удастся поймать тот самый момент, когда организм перестаёт защищать свои нервные клетки, у медицины может появиться шанс предупредить «бонусные» заболевания в обозримом будущем. Так что, в следующий раз, когда будете радоваться простуде, которая прошла на третий день, задумайтесь: вдруг где-то глубоко внутри вас природа только примеряет костюм очередной великой болезни? Исследование провели Кейди С. Лоули, Тэ Вук Канг, Ракель Р. Рек, Мумита Кармакар, Рэймонд Кэрролл, Арасели А. Перес Гомес, Катя Амстальден, Ява Джонс-Холл, Дэвид У. Тредгилл, С. Джейн Уэлш, Колин Р. Янг и Кэндис Бринкмейер-Лэнгфорд, опубликовано в Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

Атипичная депрессия: встречайте нового монстра на кладбище надежд
Неужели человечество и тут смогло все усложнить? Депрессии, оказывается, бывают не просто «грустно-печально», а чуть ли не с подписью «уникальный случай». Учёные из Австралии решили устроить разбор полётов депрессии и обнаружили: атипичная депрессия — это вовсе не очередная выдумка психиатров, а реальный биологический зверь со своими примочками, генами и торжественно плюющимся на стандартные назначения таблеток. Если вы думали, что депрессия — это когда только печалишься и не можешь поднять себя с дивана, спешу расстроить: все куда сложнее и печальнее. У каждого, кто столкнулся с этой напастью, симптомы могут быть свои, как в приличной лавке со странным товаром: кого-то осчастливит первая попавшаяся таблетка, а кто-то останется клиентом постоянным, проходя марафон по аптекам. Команда под предводительством Mirim Shin из Сиднейского университета вот уже который год решает, отчего же одним лекарства помогают, а для других аптека — лишь символ национального позора. На этот раз под прицел попала так называемая атипичная депрессия — вариант, о котором психиатры спорят не первый десяток лет, но до сих пор не могли доказать его самостоятельность. В австралийском исследовании привлекли почти 15 тысяч человек из крупнейшего когортного исследования депрессии — Australian Genetics of Depression Study. 75% участников — женщины, в среднем — под сорок лет, что автоматически рисует портрет самой уставшей части человечества. Ключ к разгадке: у разных людей разная депрессия, и не только по настроению, но и по генетике. Как отличить атипичную от навязшей в зубах «типичной»? Тут формула проста: если у вас не бессонница и похудение, а всё с точностью до наоборот — вы спите как герой зимней спячки и уплетаете за обе щеки (буквально теряясь в собственном холодильнике) — поздравим, вы в «атипиках». Таких было примерно 21% из всех обследованных. С генами атипичной депрессии всё тоже весело: у таких пациентов чаще выявляют склонность не только к обычной депрессии, но и к СДВГ (это то самое, когда внимательность, как у золотой рыбки) и биполярному расстройству. Зато никаких намёков на шизофрению — тут генетика, как ни странно, милосердно обошла стороной. Что ещё мальчики и девочки с атипичной депрессией приносят с собой? Сильное тяготение к разгулам ночью и вялое существование днём — биологические «совы», которые днём почему-то предпочитают контактировать с подушкой, а не дневным светом. Кстати, c нарушенным циркадным ритмом коррелируют и проблемы с лишним весом, сахаром в крови, воспалением. Как приятно: не депрессия, а полный набор ненавистных современных болячек! Самое обидное — назначенные всем подряд антидепрессанты из групп СИОЗС и СИОЗСН (если что, это самые известные, типа «прописал врач — и забыл про депрессию»), атипичных пациентов расстраивают куда больше, чем обычных. Имейте в виду: эффективность этих лекарств для «атипиков» на 12-15% ниже, а шанс потолстеть во время лечения почти в три раза выше. То есть начинаете с депрессии, а заканчиваете с лишними килограммами и вечной дремой. На закуску немного научного занудства: исследователи попытались отделить мух от котлет, то есть влияние веса от генетики депрессии и сна. Даже когда массово подсчитывали ИМТ, особенности циркадного ритма никуда не девались. Выходит, суть атипичной депрессии — именно в сбое биологических часов и фиаско стандартной фармакотерапии. Что делать, если вы или ваш знакомый подозрительно тяготеете к ночному образу жизни, лишним килограммам и никак не ладите с таблетками счастья? Стоит поговорить с врачом: возможно, вам и вправду нужен другой подход, а не усердное поглощение одних и тех же таблеток. Следите за сном, весом и честно рассказывайте об этом на приёме. Помните: депрессия — это не чёрно-белая грусть, а калейдоскоп вариантов, где каждому нужен свой ключик. Кстати, исследование имеет и свои ограничения: диагноз ставился исключительно по воспоминаниям пациентов (что, согласитесь, не всегда надёжно), изучались только люди европейского происхождения, и рассматривались лишь обычные антидепрессанты. Остаётся лишь подозревать, что для атипичных случаев наверняка ещё не найден идеальный препарат. Но перспектива есть: бороться с нарушением циркадных ритмов с помощью яркого света, выверенного графика сна и прочих лайфхаков XXI века. Может, эти методы и вытащат из лап хандры, когда таблетки бессильны. Вывод? Если стандартный фарм-набор не работает, винить себя бессмысленно. Просто твоя биология решила сыграть свою мелодию. Так что — следите за своими биочасами, не стесняйтесь менять лечение, а врачам — внимательнее приглядываться к «странным» пациентам. Может быть, именно это и даст шанс выбраться из лабиринта депрессии.

Генно-модифицированные стволовые клетки: игры с мозгом после инсульта
Каждый год миллионы людей внезапно узнают о существовании инсульта на собственном опыте: перекрытый сосуд, пара секунд — и часть мозга уже коптит небо в одиночестве, а человек — на больничной койке. Инсульт уверенно держит пальму первенства среди причин инвалидности, и если вы думали, что вас это не коснётся, статистика безжалостна: каждый шестой житель планеты когда-нибудь окажется в этом знакомом до боли положении. Мозг — штука сложная, если не сказать, вредная. Именно благодаря хитросплетениям нейронных сетей мы знаем таблицу умножения, вспоминаем лица бывших и додумываем остроумные ответы спустя три дня. Но сложность эта оборачивается внезапной хрупкостью: мышцы или печень залатают себя без вопросов, а вот мёртвый нейрон не воскресает даже по Пасхе. Возрастные болезни — наше привычное наследство, да и обширные инсульты впереди планеты всей. Современная медицина научилась держать инсультников в живых, но — сюрприз! — починить пострадавшие участки мозга всё ещё не способна. Реабилитация — хорошо, но на выходе часто получается вечный абонемент на забытые слова, проблемы с движением, а депрессия и слабоумие бесплатно в нагрузку. Однако на горизонте маячит надежда в виде стволовых клеток. Терапии на клетках — еще одно чудо из арсенала современной науки: идея проста, как три рубля — добавить новые клетки туда, где старые не справляются или испарились. Вроде бы всё логично, но когда дело доходит до мозга, всё становится невыносимо сложно — будто вы собираете мебель из ИКЕА на ощупь и без инструкции. Да и регламенты, финансы и бюрократия норовят затормозить любую революцию. Если у вас тёща из Швеции, спросите — наверняка её согласие надо брать у местных учёных. Уже в конце 80-х шведские исследователи под предводительством Андерса Бьёркленда и Олле Линдвалля подсадили стволовые клетки в сознание пациентов с болезнью Паркинсона. Паркинсон — это когда нейроны, управляющие движением, внезапно решают пуститься в пляс смерти. Эксперимент был настолько успешен, что некоторые участники снова начали двигаться без того тоскливого взгляда, с которым смотрят рекламу лекарств. Такую красоту наука до этого себе не позволяла: впервые доказали, что мозг можно ремонтировать — надо всего лишь правильные клетки воткнуть. И если вы думаете, что дальше всё пошло как по маслу… Ну да, сейчас клинические испытания идут по всему миру, а Европа так зарегулировала, что любой сурикат будет доволен. Но инсульты — не Паркинсон. Мозг после инсульта выглядит так, будто по нему проехался каток: повреждения широкие, страдает не только один вид клеток, а сразу шумная компания нейронов, глии и сосудов. Мало впихнуть свежие клетки — они должны не просто выжить, а вписаться в коллектив: вырастить отростки, построить мостики (синапсы) и, главное, заработать в команде. Тут даже межгалактический "Мост через реку Квай" покажется детским лего. Клетки должны стать частью этих самых нейроцирков, иначе вся затея с пересадкой — словно лейкопластырь на проломленную дверь. И тут на арену выходит генетическая инженерия. Не просто модификация с перспективой вырастить хомяка с шестью лапами, а тонкая настройка клеток, чтобы они лучше приживались и соединялись. Например, ученые подселили новым клеткам ген BDNF: это такая белковая нянька, отвечающая за выживание и рост нервных клеток, а также строительство новых связей. Мозг со вкусом принимает такие клетки — по задумке, новые нейроны не только заполняют пустоту, но и возвращают утраченную связь. Что может пойти не так? Возникают вопросы: насколько этично вмешиваться в природу так глубоко? Ведь первые опыты делали с использованием клеток эмбрионов. Спор тут бесконечный. Однако теперь, благодаря японскому лауреату Нобелевки Синъя Яманаке, мы можем производить "универсальные" стволовые клетки прямо из кожи взрослого человека — делают это в лаборатории, из банального кусочка кожи. Минус этические терки, минус риск иммунного отторжения, почти онлайн-доставка здоровья! Так в чём теперь вопрос? Не в том, МОЖЕМ ли мы — а КАК, КОГДА и с какой осторожностью нам это делать. Медицина — это гимнастика в борьбе с невозможным. Ещё недавно идея вернуть мозгу хоть что-то после инсульта казалась в лучшем случае фантастикой, а в худшем — поводом вызвать психиатра. Теперь наука, генетика и биология аккуратно склеивают то, что принято было просто вычеркивать. Дела идут сложно, но от каждого нового успеха в лаборатории хочется поверить: мозг не только помнит, но и чинится. Если, конечно, ему не мешать.

Провода в голове: как одна белковая «починка» может изменить мозг при синдроме Дауна
Недавно опубликованное исследование в журнале Cell Reports уверенно шагает по минному полю неврологии — в попытке исправить то, что судьба уронила на пол в момент деления клетки. Исследователи установили: возвращение определённого белка в мозг мышей с синдромом Дауна способно практически «перепрошить» их нервные цепи и, шепотом скажем, вернуть мозгу утраченную ясность. Синдром Дауна — результат анекдотической ошибки природы: вместо привычных двух хромосом под номером 21 человек получает три, причём с набором дубликатов всех генов, что там прописаны. Итог: нарушения в работе сердца, иммунитета, да и с мозговыми функциями всё гораздо печальнее, чем у рядового гражданина. В чём тут фокус? Оказывается, у людей с трисомией 21 структура нейронов организована так, как если бы их собирали в темноте и без инструкции. Соседями нейронов по мозгу являются астроциты — клетки-звёзды, протягивающие свои ловкие щупальца между нейронами и обеспечивающие их нужными белками — своего рода «строительными материалами» для устойчивых связей. Группа ученых задумалась: если у астроцитов и нейронов при синдроме Дауна наблюдается «белковый дефицит», не попробовать ли восстановить баланс? Было решено найти из списка пострадавших белков одного-двух героев, способных вытащить нервные связи из комы. Выбор пал на плеиотрофин (Ptn) — белок, который, словно навигатор на маршрутке, помогает нейронам прокладывать свои отростки и ловить чужие сигналы. Картина у мышей — как в цирке абсурда: те, кто лишён Ptn, показывают убогие и короткие дендритные «ветки» на нейронах, такое же уныние, как у их собратьев с синдромом Дауна. Всё указывает на то, что именно этот белок — ключ к загадочной двери, за которой нейроны снова смогут расти и связываться друг с другом. И вот, выкатив лабораторные арсеналы, исследователи загрузили ген Ptn в специальный вирус (того самого, который применяется для генной терапии, только с отключёнными вредными функциями) и в буквальном смысле "всунули" его в астроциты по всему мозгу взрослых мышей с синдромом Дауна. Места испытаний выбраны не случайно — визуальная кора и гиппокамп, две зоны мозга, отвечающие за память и зрение и страдающие от синдрома больше других. Когда астроциты обогатились новеньким белком, плотность связей в указанных зонах подросла до уровня обычных, «нормальных» мышей. Не остановившись на достигнутом, авторы эксперимента замерили электрическую активность в гиппокампе. И, о чудо: после повышения уровня Ptn сигналы стали столь же бодры, как в мозгах здоровых грызунов. Это, на минуточку, практически «ремонт» короткого замыкания на уровне всей нейронной микросети! Однако размахивать баннером «синдром Дауна побеждён» пока рано. До реальных людей дело, как водится, дойдет не завтра. Но открытие настойчиво подмигивает на тему: возможно, если покопаться в астроцитарных белках, удастся не только исправить отклонения при синдроме Дауна, но и подлечить прочие бедствия — от синдрома ломкой Х-хромосомы до Паркинсона. А вдруг однажды удастся обмануть вечное правило взрослого мозга — свою неподатливость к изменениям? Интересно, что этот неожиданный терапевтический маршрут может открыть двери для совершенно новых подходов в неврологии, где прежние методы — как микроскоп, которым пытаются забить гвоздь. Мораль проста: даже с тремя двадцать первыми хромосомами нельзя списывать мозг со счёта, если природа ещё не выкинула свой последний козырь.

Гены, мозг и IQ: почему плотность мозговых проводов важнее их изоляции
Ученые наконец-то докопались до того, почему одни люди решают задачи быстрее других, а двоюродный брат — наоборот, долго ищет ключи от дома, хотя они у него в руке. Суть кроется не только в классической «наследственности», но и в том, насколько плотно упакованы нервные волокна в определённых участках мозга. В ход пошла тяжелая наука с непроизносимыми названиями — и результаты, как обычно, вышли слегка депрессивными. Исследование, опубликованное в уважаемом журнале Cerebral Cortex, развенчало модную легенду о том, что ум определяется чисто «породой» или, скажем, массой серого вещества. На первый план неожиданно вышли микроскопические «провода» – нейриты, которые обеспечивают передачу сигналов по белому веществу мозга. Чем их больше — тем выше интеллект. По крайней мере, так решили наука и статистика, а мы, как водится, стоим в сторонке и скептически смотрим на происходящее. Авторы работы — команда из Германии во главе с Кристиной Стаммен из Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors (если вы не слышали — не переживайте, мало кто слышал). Они усадили больше 500 бодрых студентов в МРТ-аппараты, выстригли у них клеточки изо рта (не пугайтесь, это стандарт), перекрутили в пробирках их ДНК и заставили решать кучу тестов на интеллект. Получив генетические баллы за умственные способности, ученые полезли рассматривать белое вещество головного мозга в 64 (!) разных участках при помощи продвинутых нейровизуализационных технологий, за которые любой средний медик выдал бы Нобелевскую — если бы мог выговорить их название. Микроструктуру мозга проверяли двумя, простите, хитрыми способами: во-первых, смотрели на плотность и направление тех самых нейритов (метод NODDI), а во-вторых — на количество миелина (жира, которым нервные «провода» в мозге покрыты, чтобы сигналы ходили быстрее). Итог впечатлил даже самих исследователей: оказалось, что главный игрок в интеллекте — это плотность нейритов, а вот «жирок» (миелинизация) и строгость построения «проводков» роли почти не играют. Суровая статистика: если человек по генетическим меркам склонен к высоким интеллектуальным достижениям, у него, как правило, в ключевых участках белого вещества плотность нейритов больше. А если с этим пунктом беда — никакая ухищрённая изоляция проводов на IQ особенно не повлияет. Самое занятное — между распределением этих микропроводов и баллами на тестах на интеллект обнаружена чёткая связь, причём особенно это заметно в тех местах, где проходят основные «шоссе» мозга: такие, как унцинатный пучок (вовлеченный в память и язык), верхний продольный пучок, цингулум и средний продольный пучок. Какими бы тяжеловесными эти названия ни звучали, вся суть проста — больше путей для мозговых сигналов, выше шанс, что человек разберется в шахматах, не заблудится по пути в магазин и запомнит, где припарковал машину. А вот миелин (тот самый ускоряющий жирок, на который так надеялись раньше) снова подвел: ожидаемого влияния на интеллект в молодой здоровой аудитории не нашлось. Даже сами исследователи слегка удивились — ведь классика жанра гласит, что именно изоляция проводов делает мозг мощнее. Но, увы, теория разбилась о суровую медицинскую реальность. Всё это, конечно, не повод объявлять победу генам или записываться в клуб «рожденных умными». Оказывается, гены действительно могут влиять на плотность микросетей мозга — но эффект настолько скромный, что родителям придется по-прежнему надеяться и на воспитание, и на удачу. К тому же, спектр исследований ограничен: почти все испытуемые были образованной молодежью с интеллектом выше среднего, так что мечты о российском Шерлоке Холмсе или домашней версии Эйнштейна, склонном к лени, пока сохраняем. Да и сама наука не устояла перед соблазном предупредить: современные методы МРТ, какими бы инновационными они ни были, всё равно не дают полного понимания о микроструктуре мозга. Поэтому выводы — это скорее первая наброска к портрету связи между генами, мозгом и умом, чем завершённая картина. Собственно, мораль простая: если вам вдруг показалось, что у коллеги провода не так лежат или сигналы идут долго, виноваты не вы, а природа и микроскопическая структура его мозга. И да, четырехзначный IQ по-прежнему редкость. Но если уж хотите знать, где прячется интеллект, — ищите не в сверкающей изоляции, а в плотности тончайших мозговых «шнурков».

Танцуй, что хочешь, но счастливее не станешь: музыка и мифы о "волшебных" жанрах
Музыка и счастье: в чем подвох? Ну что, пора признаться: сколько бы вы ни слушали попсу, шведские танцевальные ансамбли или заунывный инди-рок, уровень счастья в жизни вряд ли заметно поползёт вверх. Правда, сначала учёные насильно втирали в уши идею, что музыка превращает унылого офисного планктона в сияющего Будду. Но шведские исследователи из Института Макса Планка и университета Амстердама решили копнуть глубже и поставили жирную паузу после этих оптимистических прогнозов. Подошли с близнецами, а не с гармонью Исследование было сделано на серьёзных щах — взяли целых 8 879 взрослых близнецов из Шведского регистра. Испытуемых спрашивали не только, кого из вокалистов эстрады они до смерти терпеть не могут, но и как часто чувствуют себя спокойными, бодрыми и способными контролировать жизнь (это, кстати, анкета Всемирной организации здравоохранения, если что). На всякий случай даже проверяли, не заложены ли ваши танцы-под-метал в генах: для трети участников просмотрели их генетический материал. Какие жанры якобы делают жизнь "лучше" Сначала данные вроде бы показали: любители поп-музыки, госпел (это такая христианская музыка с мощным вокалом, к слову), а также шведских танцевальных коллективов чуть-чуть чаще чувствуют себя на подъёме, чем те, кто предан инди (альтернативной музыке с налётом меланхолии). Однако не тут-то было. Как только исследователи убрали из уравнения влияние общих генов и семейных условий, все "значимые отличия" куда-то улетучились без следа, словно вопрос "что сделано не так с российской эстрадой". Иными словами, не сама музыка волшебным образом меняет настроение, а то, кем вы родились и в какой семье выросли, влияет и на вкусы, и на общее состояние. > Почему считается, что поп или классика поднимают настроение, а металл и рок тянут ко дну? Извечное подозрение: если фанатеешь от чего-то весёленького — значит, сам по себе веселее и проще на подъём. Но вся эта статистика рушится при первом же серьёзном генетическом анализе. Близнецы слушали разную музыку, а уровень счастья у них не различался вовсе. Так что в битве меломанов и буквоедов молекула выиграла у микрофона. Музыкальный всеядный = душа компании? Учёные особенно надеялись найти какую-нибудь сверхсилу у так называемых музыкальных всеядных — тех, кто одинаково любит всё: от кантри до джаза. Но тут, увы, никаких бонусов к счастью. Можно ходить на оперу, танцевать под аккордеон, а потом хрипеть с металлистами — и оставаться столь же радикально унылым или счастливым, как и раньше. Природу, как и бабки у подъезда, обмануть невозможно. Генетика и ещё раз генетика В попытке найти хоть что-то, что связывает уровень счастья с музыкальными пристрастиями, исследователи обратились к полногеномным индексам (специальным оценкам вероятности высокого или низкого благополучия по структуре ДНК). Но сюрприз: никакой янтарной нити между теми, кому по генам "положено быть счастливыми", и любовью к поп или госпел обнаружено не было. Приятный кружок музыкальных предпочтений и психического здоровья распался на две самостоятельные меланхоличные линии. Итоги: слушай, что нравится, и не парься Выводы, мягко говоря, разочаровывающие для фанатов идеи "музыка исцеляет душу". Предпочтения по части жанров — это не магический пропуск в клуб счастливых. Всё, как всегда, гораздо банальнее: общие семейные и генетические факторы куда влиятельнее любой самой душевной мелодии. Конечно, учёные оговорились про ограничения: мало ли, вдруг в других странах с их собственными музыкальными странностями всё иначе. Может, где-нибудь в Эквадоре испанская гитара и делает людей счастливее (наука не проверяла). Плюс, изучали в основном шведов средних лет. Но, как бы ни было, иллюзии о "лечебной силе стиля" можно пока сложить в архив. Итог один: слушай, что хочешь, наслаждайся, но если пытаешься поднять себе настроение очередной подборкой, не удивляйся, если после трёх зажигательных треков захочется просто сделать звук потише и задуматься о вечном. Мозг и гены скажут спасибо. Научная команда, ради справедливости Авторы этого разоблачения музыкальных сказок: Анастасия Братченко, Penghao Xia, Доррет Бумсма, Miriam Mosing, Фредрик Уллен и Лаура Вессельдийк. Особо гордятся магистранткой Братченко, которая теперь пишет диссертацию в Эстонии. Успехов ей — такого оптимизма после темы хочется пожелать только другим!

Генетический тест на Альцгеймер: угадай свою судьбу по крови!
Учёные снова копаются в ДНК и сообщают свежий повод для приступа паранойи: если в тебе генетически зашито чуть больше белка тау, поздравляю — велики шансы, что в ближайшем будущем забудешь, зачем пришёл на кухню, а потом и в какой стране живёшь. Новое исследование греческих гениев из Афинского медфака доказывает, что наследственная склонность к повышенному содержанию тау в крови тесно связана с риском развития болезни Альцгеймера или её загадочного предвестника — амнестического лёгкого когнитивного нарушения. Для тех, кто только что вернулся из межгалактического отпуска: болезнь Альцгеймера — это когда память и мышление утекают в никуда, а мозг заполняется лишними белками. Первый — амилоид-бета (мешает нейронам общаться), второй — тау (уничтожает нейроны изнутри). Белок тау сам по себе полезен, но если вдруг решит «забарахлить» и накопиться больше нормы — привет, нейродегенерация! Обычно найти ранние признаки Альцгеймера сложно: для этого нужно проколоть человеку всё, что можно, или сделать такие снимки мозга, что любой врач начнёт мечтать о МРТ прямо у себя дома. Поэтому исследователи пошли вокруг и решили: а почему бы не вычислить генетический риск — так называемый полигенный риск-скор для плазмы тау? Это почти как гадание на кофейной гуще, только вместо гущи — комбинация 21 генетического варианта возле гена, отвечающего за тот самый белок. В первой фазе учёные подключили 618 бодрых пенсионеров из Греции старше 65 лет, у которых на старте не было ни Альцгеймера, ни замашек забывать имена внуков. За ними приглядывали три года. За это время 73 из них успели прославиться диагнозом: кому-то повезло попасть под определение Альцгеймера, кому-то досталось амнестическое лёгкое когнитивное нарушение. Оказалось, что каждое скромное увеличение полигенного риска на стандартное отклонение приближает к диагнозу на 29%. И это не зависит от пола, возраста, образования и даже самого главного в генетике Альцгеймера гена APOE e Но жизнерадостнее всего себя показали женщины и молодые (для этого исследования — ниже 73 лет): дамы рискуют на 45% сильнее при том же скачке в баллах, а молодёжь вообще доходит до плюс 87%. Мужчинам и очень мудрым (старше медианного возраста) повезло чуть больше — у них эта связь статистически незначима. Чтобы проверить свои догадки, греки пошли искать подтверждение на просторы Британской биобанки, привлекли более 142 тысяч человек старше 60, не замученных деменцией. Их держали «под наблюдением» около 13 лет, за которые 2737 были осчастливлены Альцгеймером. Связь осталась: чем больше риск-скор, тем выше шансы увидеть врачей-неврологов чаще. Правда, тут «навар» меньше: плюс 5% риска на одно стандартное отклонение. Впрочем, когда исследователи подобрали из британских участников группу, максимально похожую на греческую, цифры подросли до плюс 50% — вот это уже заявочка! Грустно только, что все эти предсказания не абсолютны. Полигенные скор — штука предсказательная, а не приговор. Он не учитывает редкие гены, особенности образа жизни, уровень вашей любви к чаю или тому же оливковому маслу. К тому же, вся эта статистика работает пока в основном на носителях европейских генов, так что представителям других популяций стоит подождать своих исследований. Главный посыл: высокий полигенный риск не гарантирует Альцгеймера, низкий не освобождает от риска поиграть в «Кто я?» собственными воспоминаниями. Но знать о рисках заранее — штука полезная: можно и стиль жизни поменять, и за состоянием здоровья последить, и поучаствовать в клинических исследованиях. Гениальные умы уже строят радужные планы объединить полигенные риски по тау с аналогичными по амилоиду, атрофии гиппокампа и прочим радостям дегенерации — чтобы наконец скомпоновать суперпрогностический калькулятор. Молись, чтобы его массово внедрили до того, как забудешь, зачем этот текст читал.