Исследования по тегу #исследование

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.
В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.
Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.
Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.
Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Бей первым: как низкий IQ и реактивное насилие ходят рука об руку
Почему вообще кто-то кидается на людей без предупреждения? Свежий (и не такой уж оптимистичный) научный обзор сообщает: те, кто любят решать конфликты быстрой дракой, обычно не блещут интеллектом. Речь не о просто хулиганах — исследование касается импульсивного насилия, то есть тех, кто срывается с места и несёт свою "правду" кулаками. Итог прост: чем ниже результат теста на IQ, тем выше тяга к скандалам с последующим рукоприкладством. Но не спешите хвататься за линейку и мерить головы соседям — интеллект, хочется верить, не единственный контролёр хороших манер. Учёные, которые всё ещё надеются понять, почему люди агрессивны Команда исследователей из разных стран долго пыталась разобраться, отчего же некоторые особо активные граждане идут в разнос. Раньше уже подмечали, что низкие когнитивные способности связаны с преступностью вообще, но здесь пошли дальше — выяснили, завязан ли именно всплеск насилия и интеллект, а не просто общий уровень невежливости. Пусть за этот вопрос и не давали премий, зато тема вышла на уровень: 131 серьёзное исследование и более 33 тысяч человек в одной статистике — теперь игнорировать не получится. Как высчитывали: пробежались по всем доступным данным и сильно удивились Авторы обзора шерстили три крупных научных базы, раздобыли 5000 публикаций, а потом отсеяли однообразных и безинтересных. В итоге подсчитали IQ у почти двух тысяч особо горячих парней и дам, и сравнили с почти четырьмя тысячами вполне мирных сограждан. Для полноты картины подключили ещё 33 000 человек и посмотрели не только просто баллы, но и как интеллект влияет на разные проявления злости и склонность эксплуатировать кулаки вместо слов. В чём фишка? Отставание по баллам наблюдалось по всем фронтам: общий IQ, умение вербально объясниться, да и способность думать без слов — всё это уступало у любителей скорой агрессии. Причём разница особенно заметна, если у агрессора есть ещё и психиатрический диагноз или проблемы с личностью. Экономика и пол значения не играют — виноват исключительно ум? Учёные отметили: бедность или богатство, уровень образования, мужик ты или дама — радости от избытка интеллекта не прибавляет, если потенциал к агрессии всё равно ниже среднего. Кто слабее думает — тот чаще размахивает кулаками. Такие вот неутешительные коэффициенты: связь между снижением IQ и возрастанием агрессивных реакций держится стабильно, пусть и не грандиозная — от минус 0,09 до аж минус 0,20 по статистике. Всё честно: чем меньше думаешь, тем громче любишь объясняться. Особый акцент — на реактивном насилии. Это когда не строят коварные планы мести, а раздаются пощёчины "по зову сердца" в порыве драматического раздражения. Почему это происходит и что теперь делать? Идея простая и печальная: у кого скромные способности к разбору ситуации и слабый словарный запас, тот хуже справляется с фрустрацией и не умеет договариваться. Как итог — стрессовое событие часто приводит к нервному воплю или удару, а не к мирному разговору по душам. Но учёные особо подчёркивают: низкий IQ — не приговор и не татуировка "будущий заводила", а всего лишь дополнительный риск-фактор. Вот что действительно важно: не стоит лепить клеймо, мол, "вычислил по тесту — изолируй!". Наоборот, эти данные нужны для улучшения программ реабилитации. Можно учесть интеллектуальные особенности агрессивных людей и дать им не громкие лозунги, а реальные инструменты по обработке стресса и поиск способов не доводить до махача. Даже при всех плюсах, у обзора есть изъяны. Использовались самые разные тесты — жонглировали и кубиками, и словами, так что абсолютной стройности ждать не стоит. К тому же, анализ ограничился только публикациями на английском и испанском, а что там у нас в Узбекистане с IQ и драками — вопрос открытый. На подходе уже новые исследования: учёные хотят выяснить, почему одни не могут сдержать импульсы, а другие спокойно держатся, и какую роль тут играет когнитивная гибкость. Надежда есть: если узнать, как работает эта внутренняя цепочка, может, научимся предотвращать уличные бои не только дубинкой, но и словом — хотя верить в человечество после таких данных становится всё труднее. Исследование проводили Ángel Romero-Martínez, Carolina Sarrate-Costa и Luis Moya-Albiol, опубликовано в журнале Intelligence.

Подростки и соцсети: Почему уходить в офлайн — не всегда признак успеха
Сколько раз мы слышали мудрый совет: «Меньше сидишь в соцсетях — лучше жизнь!»? Оказывается, это не просто наивно, но и весьма однобоко. Если подросток вдруг перестал листать ленту TikTok или не лайкает собаку одноклассника в Instagram, вовсе не факт, что он преуспел в построении реальных дружб. Новое исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior, срывает покровы иллюзий: социальные сети не спасают от одиночества, а только дополняют — или усугубляют — тот социальный капитал, что уже накоплен в реальной жизни. Психологи уже устали спорить: делают ли Instagram и Snapchat детей счастливыми и общительными или, наоборот, загоняют их в угол с телефоном вместо настоящей жизни? Одни верят, что онлайн-общение учит дружить, другие клянутся, что из-за соцсетей подростки забыли человеческую речь и смотрят на реальный мир сквозь экран. Но кто вообще решал измерять сложную человеческую жизнь по количеству минут перед экраном? Большинство исследований — это как раз такой неверный подход: считают среднее время, а на нюансы наплевать. На самом деле жизнь подростка в сети — это не просто «зашёл/вышел». Это и пролистывание ленты, и выкладывание фото, и вспышка личной откровенности в чате, и назойливые попытки быть в центре внимания. И вот на сцену выходит Федерика Анджели́ни и компания мучеников науки из университета Падуи (Италия). В их исследовании приняли участие более тысячи нидерландских учеников от 10 до 15 лет. Три года подряд им задавали вопросы: как часто они читают чужие посты, делятся своими мыслями, лайкают друзей и делятся самыми потаёнными переживаниями? Плюс выясняли, что ими движет: страх остаться за бортом или желание стать звездой. Когда данные наконец обработали, получилась вовсе не унылая каша из средних цифр, а четыре ярко выраженных типа подростковых пользователей: "Умеренные всеядные" (самая народная категория — 54%) — те, кто делают в сети понемногу всего: и ленту листают, и фотку зальют, и друзьям пару раз напишут. У этих ребят дружба крепка как швейцарский сыр — и в сети, и на земле. Соцсети им нужны — не чтобы искать новых друзей, а чтобы не забыть старых. "Молчаливые наблюдатели" (30%) — почти не появляются онлайн, контент не постят, задают себе единственный вопрос: «Зачем мне всё это?». И каково же разочарование: у этой группы и в жизни дружба особой крепостью не отличалась. Меньше «лайков» в реале — меньше желания зависать в сети. "Откровенные страдальцы" (8%) — любят излить душу интернету, постят эмоциональные откровения, скрываются за чатами от живых диалогов. У них чаще встречается тревожность и депрессия. Психологи решили: раз в реале трудно выговориться — проще открыться кнопкам и пикселям. Но, как ни странно, именно эта откровенность помогает им сохранять приличное качество дружбы. "Звёзды сцены" (7%) — одержимы идеей самопрезентации, предпочитают постить про себя, но чужими постами особо не интересуются. Их мотив — статус, а не обмен мнениями. Со временем их круг общения только сужается: дружбы уходят в минус, ведь вместо «давай дружить» — вечное "смотрите, какой я!». В сухом остатке — соцсети как увеличительное стекло: если у подростка есть друзья и вне интернета, то онлайн только помогает не забывать друг друга. А если в реале пусто, то никакой Snapchat не соберёт дружбу из воздуха. Кстати, если твой ребёнок подсел на постинг ради лайков — тут стоит напрячься. Можно сколько угодно запрещать гаджеты, но подростковые мотивы сильнее часов перед экраном. Не стоит забывать: исследование строилось на анкетах (а кто честно вспоминает свои лайки за неделю?) и проходило в Нидерландах — у нас во дворе подростки могут вести себя иначе. Учёные не уточняли, с кем подростки дружат (друзья из жизни или интернет-знакомые), но большинство всё-таки общались с теми, кого видели раньше вживую. Ну а вообще, чтобы понять, что подростки реально делают в TikTok, не помешало бы внедрить режим тотального наблюдения — только кто на это согласится? Итог: соцсети не лечат одиночество, а подчёркивают старые схемы. Родителям и учителям самое время перестать бороться не с экранами, а с реальными причинами подростковой изоляции — и перестроить советы с «Меньше сиди онлайн!» на что-то более осмысленное.

Нарциссизм без границ: весь мир в одной зеркальной галлюцинации
Похоже, нарциссизм — эта всепроникающая страсть к собственной персоне — не знает границ, и не потому что визы стали бесплатными. Свежесваренное исследование психологии охватило 53 страны и удивило даже самых бывалых скептиков, доказав: кто бы ты ни был — юноша в самом соку, мужчина в разгаре амбиций или просто ощущающий себя королём жизни — нарциссические замашки тебе куда ближе, чем может показаться. Начнём с классического вопроса: "Неужели все мы такие?" И вот тут научное сообщество решило ударить не в бровь, а в глаз — слишком долго вся психологическая кухня заваривалась на одних и тех же ингредиентах: западных, образованных и, чего уж там, не голодающих. Теперь же решили проверить тех, кто вне привычной "западной тарелки": а вдруг люди от Анды до Японии смотрят в зеркало с той же нежностью? Под грозным руководством Уильяма Дж. Чопика (Michigan State University) собралась команда психо-эксплореров, вооружилась опросниками, захватила почти 46 тысяч респондентов из 53 государств — от Австралии до Эквадора. Опрошенные честно отвечали, любят ли быть в центре внимания, желают ли соперникам провала — словом, сдавали анализ на нарциссизм по полной программе. Вместо примитивного деления "нарцисс — не нарцисс" исследователи раскрутили концепцию Narcissistic Admiration and Rivalry: есть, мол, любители сиять и собирать аплодисменты (admiration), а есть те, кто по жизни идёт с лозунгом: "если не можешь быть богом, уничтожь всех остальных" (rivalry). Вопросы, выставляющие на чистую воду, варьировались от "обожаю быть звездой" до "пусть у всех денег не будет, зато у меня есть". А теперь — внимание, барабанная дробь: почти везде молодёжь и мужчины выходили в лидеры по уровню самовосхищения. Кто бы мог подумать, что стремление к "я, меня, мне" и в России, и в Перу одинаково бьёт в голову юным и сильным? С возрастом, правда, накал страстей приглушается — да и природа берёт своё: кто уже в зеркале видит не героя, а просто человека, тот ищет тёпла, а не оваций. Гендерные различия тоже без сюрпризов: мужчины стабильны, как курс доллара весной — всюду страсть к доминированию и напускной уверенности сильнее, чем у женщин. Ну а те, кто ощущает себя на социальной вершине (грубо говоря, "самый главный на районе"), также демонстрируют повышенный уровень нарциссизма. Видимо, смотреть на остальных свысока — это так же приятно в Португалии, как и в Казахстане. Экономика тоже решила сыграть своё: жители богатых стран чаще впадали в восхищение собой, чем представители менее зажиточных регионов. Видимо, когда на ужин шампанское, а не роллтон, и самолюбие растёт в геометрической прогрессии. Но не всё так просто: даже в обществах, склонных к коллективизму (то есть там, где "скромность — добродетель" и "отделиться — почти измена"), встречались свои нарциссы, пусть и немного другого разлива — не одиночки, а носители группового обаяния и борьбы за "место в стае". Любопытно, что все эти выводы не так уж громоздко отличаются между странами. Да, средний уровень нарциссизма скачет — но внутри одной страны разброс между людьми куда больше, чем между самыми "яркими" государствами. Так что нечего тыкать пальцем в "самую нарциссичную нацию": в каждой избушке свои погремушки. Особая изюминка — открытие: привычка считать нарциссизм чисто западным продуктом оказалась такой же ошибкой, как делать выводы о России по сериалу "Беверли-Хиллз". Даже коллективистские культуры, как выяснилось, могут растить "звёзд" ничуть не реже, просто меряют успехи другими мерками. Есть, конечно, и ложка дёгтя: исследование сделано по принципу "один снимок — всё на месте", так что в динамике (стареет ли нарциссизм вместе с паспортом или это особенности поколений) ответов пока нет. Да и религию, политику и семейный быт ещё только предстоит втянуть в эту психологическую кашу. Мораль сей басни проста: нарциссизм — это не чья-то национальная забава, а почти повсеместный симптом человеческого бытия: где молодой, там самоуверенный, где мужчина — там эго крепче, а где статус — там самолюбование под потолок. Но не спешите примерять корону мира: между соседями различий, порой, больше, чем между континентами. И, как выяснилось, даже самый скромный коллектив может дать жару в битве самолюбий. Исследование опубликовано в журнале Self and Identity. В работе участвовали Macy M. Miscikowski, Rebekka Weidmann, Sara H. Konrath и всё тот же Уильям Дж. Чопик.

Хочешь хороший секс? Почувствуй себя могущественным, и пусть партнёр не прячется под кроватью
Вечная борьба за кофемашину на кухне, кто первый смотрит телевизор и, наконец, кто управляет дистанционкой — с виду обычная бытовая драма. Но оказывается, что невидимая рука власти в отношениях куда изворотливее и интереснее, чем сцены из романтических комедий. Новое исследование, опубликованное в The Journal of Sex Research, наконец расставило все по местам: чувство власти в паре тесно связано с тем, насколько оба партнёра довольны своей сексуальной жизнью. Причём, что удивительно, тут выигрывают оба — никакой игры на выбывание. Психологи уже давно копались в вопросах того, как чувство могущества влияет на уверенность, решительность и стремление к цели, но вот как эта внутренняя власть переплетается с интимом, долгие годы оставалось загадкой. Роберт Кёрнер из университета Бамберга решил наконец вызвать эту тему на чистую воду. Вместе с коллегами он разделил отношения на несколько категорий: есть так называемая «актерская власть» (когда ты сам себя ощущаешь властным), есть «партнерская» (когда влиятельным кажется второй), а ещё существует загадочный «желательный контроль» — это когда очень хочется рулить, но на практике всё как обычно. Чтобы докопаться до сути, команда учёных устроила настоящий научный сериал. Сначала они опросили 147 человек, у которых уже есть отношения. Всё по-взрослому: онлайн-анкеты, рейтинги по шкале «слушает ли партнёр то, что я говорю» и прочие прелести самокопания. Самоощущение влияния железно коррелировало с интимной удовлетворённостью и сексуальной мотивацией — чем больше власти, тем сильнее желание не только вести за собой, но и ясно высказывать свои фантазии. Опыт нашёптывал: личная власть – пропуск к хорошему сексуальному гардеробу. Но не всё так просто, как клонированный формат ток‑шоу. Вторая волна — 287 гетеросексуальных пар. И вот тут началось самое вкусное: оба партнера заполняли анкеты отдельно, чтобы исключить эффект «разделяй и властвуй». Использовали хитроумные тесты: шкалу силы влияния и объемный опросник по сексуальным привычкам. Оказывается, если у одного чувство власти зашкаливает — интимная жизнь улучшается не только у него, но и у второй половинки. Казалось бы, на этом можно остановиться и выпить за победу либерализма, но исследователи пошли дальше и переметнулись к ЛГБТК-сообществу. В проекте приняли участие 96 однополых и небинарных пар. Оказалось, для людей всех направленностей ощущение влияния работает как универсальный катализатор: больше власти – выше сексуальная удовлетворённость и решительность. Правда, зависимость между властью партнёра и удовлетворенностью не всегда столь же очевидна, как у гетеро-пар, но тенденция устойчива, как старый советский утюг. Пик форменного волшебства наступил, когда ученые решили понаблюдать за спутниками жизни в формате «дневник онлайн»: 106 человек две недели подряд фиксировали свои ощущения власти и сексуальные приключения (или их отсутствие) каждый вечер. Итог? В те дни, когда человек ощущал себя почти Наполеоном домашнего фронта, его удовлетворённость и интерес к интиму возрастали с такой скоростью, что олимпийские спринтеры могли бы позавидовать. Главное — это прослеживалось именно внутри каждого участника, а не только при сравнении между людьми из разных семей. Интересно, что то самое жгучее желание всё контролировать напролом — никакой позитивной (а иногда и негативной) связи с качеством интимной жизни не имеет. То есть можно мечтать диктовать условия, но пока реального влияния нет — фантазии останутся невинными мечтами. Уровень власти действительно работает, а вот мечты о власти — это как мечтать о пирожном вместо того, чтобы съесть его. Однако, прежде чем развешивать на стену портрет своего собственного "либерального вождя", стоит понимать: никто не говорит о доминировании и тирании. Речь идёт именно о взаимном влиянии, о том, что оба партнёра могут одновременно ощущать себя хозяевами положения — и тогда на поле сексуальных баталий наступает долгожданный мир. Кстати, желание контролировать кого-то против его воли в данном случае вовсе не поощряется. Исследователи делают акцент — речь не идёт о диктатуре, а о возможности слушать и быть услышанным. Несмотря на железобетонные данные, поставить точку в вопросе «что важнее — власть или хороший секс» пока рано: возможно, что яркая интимная жизнь сама по себе делает людей увереннее и влиятельнее в отношениях. А может, и наоборот. К тому же всё проходило в Германии — а тут, знаете ли, автономия и равенство любят не меньше, чем хлеб с маслом. Как подобные игры разума работают в странах, где гендерные роли прописаны жёстко, ещё предстоит выяснить. И последнее: если вы после этой статьи подумали о семейном перевороте — лучше не спешите. Власть в отношениях, как показало исследование Кёрнера и Шюц, не про борьбу за трон, а про искусство слышать и быть услышанным. Кто знает, может, в этом кроется секрет по-настоящему бурной страсти?

Кто тут жертва? Почему "комплекс жертвы" — не всегда про обиженных, а часто про скрытых нарциссов
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, с хрустом вскрыло старую истину — за вечным нытьём о собственной судьбе часто прячется вовсе не пережитая травма, а куда изощрённее штука. Оказывается, проникающая сквозь все сферы жизни "жертвенность" тесно связана не с реальными обидами, а с тонко закрученной системой нарциссических черт. Причем — сюрприз! — жертвенность сильнее пересекается с так называемым "уязвимым нарциссизмом", чем с напыщенным, всемогущим "гранд нарциссизмом". Авторы исследования взялись за разбор загадочного явления психики — "склонности к межличностной жертвенности" (честно — термин, достойный отдельного анекдота). Это устойчивое ощущение себя вечной жертвой, вне зависимости от перемены декораций и смены собеседников. В этом бесконечном театре играют сразу четыре актёра: жажда признания собственных страданий, чувство морального превосходства, хронический дефицит сочувствия к другим и навязчивые пережёвывания прошлых обид. История Тереcии Бедард, одной из исследовательниц: "Я встречала людей с вечной жертвенной пластинкой, и у меня складывалось ощущение, что внутри они словно заквашены на эгоцентризме. Потом, когда приехала в университет Lakehead, случайно познакомилась с этим феноменом через коллег, и оказалось — описание как раз под таких людей". Ранее психологи уже умели вычислять жертвенных страдальцев по опросникам, но не могли толком понять — какие именно виды нарциссизма расцветают на этой почве. Значит, различаем два сорта нарциссов: грандозные (любят себя, как коты обогреватель, жаждут власти) и уязвимые (чувствительны к любой критике, самооценка на шарнирах, обиды коллекционируют, как марки). Исследователи решили — хватит гадать, надо мерить. 400 канадцев, возрастом от совершеннолетия до глубоких седых мудрецов, протащили через батареи психологических тестов. Для гранд нарциссизма — стандартная анкета NPI-13, уязвимый нарциссизм — шкала гиперчувствительности. Отдельно измерили склонность к "публичному страдательству" — то есть привычку громко делиться своими страданиями с окружающими для сбора лайков, сопереживаний и пряников. Проанализировали — и, как тут не усмехнуться, выяснили: настоящие адепты вечной жертвенности почти всегда сочетают у себя уязвимый нарциссизм и эмоциональную неустойчивость (это когда любое событие в жизни приводит к свиту из драм и тревожных расстройств). Логика проста как тапок — чем более расшатана самооценка, тем больше человеку хочется быть замеченным как страдалец и обиженный. Публичная демонстрация своих мук (так называемый victim signaling) — вот здесь распахиваются объятия и для грандозных нарциссов (чистый нарциссический эксгибиционизм) и уязвимых (через призму собственной жертвенности и обидчивости). Словом: одним — для эффекта шоу, другим — для внутреннего «поглаживания за страдания». Если переложить всё это счастье на знаменитую психологическую "Большую пятёрку" (открытость, ответственость, экстраверсия, дружелюбие, невротизм), то опять вылезет невротизм — постоянная тревожность как главный энергетик жертвы и главная сила, что тянет к демонстрации своих терзаний. При этом, чем выше экстраверсия и открытость, но ниже дружелюбие — тем с большей вероятностью на вас обрушится поток публичных жалоб и рассказы "как все меня обидели". Но, прежде чем вы побежите искать у всех знакомых эту "склонность к жертвенности", помните: исследование не про реальных жертв насилия или дискриминации. Учёные настойчиво повторяют — нельзя ловить на этом концепте настоящих жертв, и обвинять их в нарциссизме. Речь идёт не об объективном опыте, а об определённом режиме восприятия и стиле поведения, который может возникнуть независимо от реальных страданий. Забавный вывих цивилизации: работы других исследователей, например, Раhав Габай, показали — жертвы по призванию ещё и мстительны, считают себя вправе нарушать моральные нормы. Есть такое комбо: нарциссизм, макиавеллизм (да-да, тот самый из "цель оправдывает средства") и психопатия, дающие новому поколению индивидов хитряцкую стратегию — сигнализировать и о страданиях, и о собственной добродетели, чтобы выжать из окружающих что-то для себя. Есть и новый поворот: если у кого-то проявился парад деструктивных черт вроде макиавеллизма и садизма — вполне возможно, он будет не страдать вслух, а обвинять других для своей выгоды. При этом, если индивид уже замечен в демонстрации жертвенных страданий налево и направо, скорее всего, окружающие начинают считать его не особо-то честным и сильно сомневаются в его компетентности — и не зря, как показывает работа команды Карла Акуино. Люди чуют фальшь жертвенной мантры и используют её для социальных оценок в стиле "этот точно мутит что-то не то". Конечно, исследование не без изъянов: это не прямая доказательная база, а скорее фотография на один кадр — в будущем нужно будет доказать причины, не только связи. И да, всё проводилось на канадцах — как это отразится на россиянах с их закалённой душевной организацией, сказать сложно. Сделаем паузу для очевидного, но очень важного: никто не говорит, что если человек жалуется — он самовлюблённый тип и не знающий настоящих бед. Просто за склонностью к роли вечной жертвы может скрываться очень даже коварная комбинация психических черт, этим и опасна. В перспективе, команде исследователей стоит поработать над тем, как помогать обладателям комплекса жертвы: так как уязвимый нарциссизм и невротизм — главные кузнецы этого ментального квеста, нужно работать над управлением эмоциями и самооценкой. А если вдруг узнали себя — пора завязывать с ритуалами страдания и обращаться к специалистам. Главное помнить: ни одна жизненная драма не должна превращаться в главный смысл жизни.
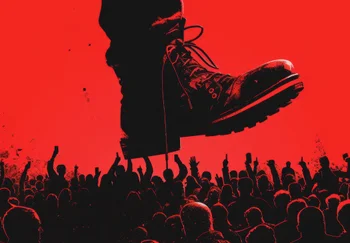
Почему популисты идут в народ: два типа фанатов "сильной руки" и где они водятся
Исследование, проведённое с размахом сразу в девяти странах, решило разобраться, кто же набивает армию поклонников у популистских лидеров. Получилось довольно неожиданно: на самом деле, популистскую аудиторию можно спокойно делить на два непохожих лагеря. В странах типа Италии, Венгрии, Польши, Испании, Бразилии и Аргентины рвутся за своими вождями в основном те, кто жаждет жёсткой руки, порядка и чтобы всяким чужакам жизни мёдом не казалась. А вот, например, во Франции и Канаде рулит натуральное возмущение элитами — люди устают от заносчивых политиков и лелеют мечту вернуть власть в руки народа. И, вдобавок, США оказались чемпионатом отдельным — там эти две динамики почему-то не играют заметной роли вообще. Поясним по понятиям: популисты — это те, кто обещает быть голосом "простого народа", изображая борьбу против коварных, алчных, забывших людей элит. Маски разные: слева общество пугать капиталами и разницей между богатыми и бедными; справа – раздувать тревогу вокруг национальной идентичности, мигрантов, катастрофического внешнего влияния и прочих угроз. В любом случае, на первом плане всегда спектакль "мы против них". Простота, максимальный эпатаж и минимум уважения к экспертам – то, что доктор-популист прописал. Исследование велось под патронажем двух отчаянных учёных — Anna Brigevich и Andrea Wagner; они загнали тысячу респондентов из каждой страны (всего 9000 человек) отвечать на каверзные вопросы. Отбирали, чтобы совпадали по возрасту и полу с населением страны, и ещё учли, откуда сам респондент — чтобы не получилось, что вся картина только из столиц и мегаполисов. Почему были выбраны именно эти страны? Например, в Италии, Франции, США и Канаде аккурат перед этим популизм правого толка вышел на первые роли. В США, несмотря на давнюю любовь к левому популизму столетней давности, теперь всё больше слышно правых радикалов — ну и, конечно, культовые имена вроде Трампа или его оппонентов-социалистов (Bernie Sanders или Alexandria Ocasio-Cortez). В Бразилии, Испании и Аргентине традиционно были сильны левопопулисты – там быть "за народ" принято чуть более нежно и с оглядкой на малозащищённые слои. А уж в Венгрии с Польшей – полный спектр национализма, где "порядок" важнее многоголосия. Названия и лица в исследовании не баловали разнообразием – все исследуемые лидеры оказались из лагеря правых. Засветились тут такие персоналии, как Marine Le Pen (Франция), Giorgia Meloni (Италия), Donald Trump (США), Pierre Poilievre (Канада), Santiago Abascal (Испания), Jair Bolsonaro (Бразилия), Javier Milei (Аргентина), Viktor Orbán (Венгрия) и Andrzej Duda (Польша). Анкета была непростая: автора интересовала, насколько народ верит во власть народа (people-centrism), ненавидит элиты (anti-elitism), мечтает о прямой демократии (majoritarianism), скучает по твёрдому лидеру (strongman), ценит политические умы (elitism) и болеет национализмом. Оказалось, что ненависть к верхушке и вера в народ тянутся друг к другу как двое на школьной перемене, составляя антиэлитарный настрой. А вот любовь к "крепкой руке", элитарности и национализму объединены одной идеей — авторитарной. В финале выяснилось: если в Италии, Венгрии, Польше, Испании, Бразилии и Аргентине ты хочешь голосовать за популиста, напрягайся быть сторонником строгих порядков, национального единства и лидера, способного настучать по столу. Во Франции и Канаде же наибольшей популярностью у популистов пользуется идея сбросить политический балласт и избавить страну от удушливого засилья элит. А вот Америка, как ни старались, не подпадает ни под одну классификацию. То ли у них смесь выведена мутная, то ли просто все устали от политики вообще. Какой вывод? Популисты, вроде бы, все одинаково шумные, но на поверку — за каждым шумом скрывается свой особый психотип фаната. То ли железная рука с арматурой, то ли тоска по "обычному человеку" во главе. Исследование, конечно, разбиралось только с правыми лидерами. Возможно, у леваков свои методы магии.

Токсичная маскулинность: страшилка или реальность?
Большинство мужчин не подходит под классический портрет «токсичной маскулинности» — вот такой сюрприз обнаружили исследователи в Новой Зеландии. Люди годами пугали друг друга жуткими историями о мужчинах, чья брутальность граничит с диагнозом, но вот вам свежие цифры: в масштабном исследовании с участием более 15 тысяч (!) гетеросексуальных мужчин выяснилось — совсем большинство из них от этого самого «токсичного» стереотипа далеки как ядерная зима от мая. Учёные (которых, для надёжности, сразу четверо, двое с университетов Окленда и Квинсленда) разложили мужские черты и тараканы по полочкам с немецкой педантичностью. Их целью было выяснить: как часто встречается тот самый «токсичный портрет» и можно ли вообще строить мужскую идентичность только на основе агрессии или женоненавистничества. Результаты опубликовали в уважаемом журнале Psychology of Men & Masculinities, чтобы до всех дошло официально и без сплетен. Для эксперимента использовали данные новозеландского исследования ценностей (что-то вроде российской ВЦИОМ, только всерьёз и по-настоящему репрезентативно). В выборку набрали 15 808 гетеросексуальных мужчин от 18 до... 99 лет! — средний возраст получился 51 год. Разнообразие, сами видите, почти как в линиях метро Москвы. Мужчинам задали вопросы, которые обычно приписывают как сигналы «токсичной маскулинности»: насколько важно быть мужчиной (гендерная идентичность), предвзятость к людям с другой сексуальной ориентацией, склонность к эгоцентризму, неприятие чужих мнений, откровенное и «мягкое» сексистское отношение к женщинам, противодействие борьбе с домашним насилием и стремление к доминированию одних групп над другими. Для simplicity применяли сокращённые опросы (иначе интервью заняли бы до пенсии), но, уверяют, результатам доверять можно. Кто все эти люди? Исследователи с помощью хитрой статистики вычленили пять чётких профилей мужского поведения, и тут начинается самое интересное: Самая большая группа (35,4%) — «Атоксики». Они вообще не заморачиваются токсичностью — самые спокойные и мирные. Вторая по величине (27,2%) — «Умеренно терпимые к ЛГБТ». Они тоже не стервы, и предвзятости у них мало. Самолюбия и несговорчивости чуть больше — по сравнению с «Атоксиками», но это, видимо, мелочи жизни. Третья группа (26,6%) — «Умеренно анти-ЛГБТ». Вот эти красавцы отличаются чуть большей предвзятостью, хотя в остальном такие же среднестатистические граждане. Четвёртая компания, «Благожелательные токсики» (7,6%). Они вдумчиво сочетают патернализм (то есть уверенность, что женщина без правильного мужчины — никуда) и откровенную предвзятость. Домашним насилием особо не интересуются и вообще склонны считать, что женщина — загадочная ваза на полке. Самый редкий сорт (3,2%) — «Враждебные токсики». Тут прям концентрат всех прелестей: грубость, женоненавистничество, ненависть ко всяким превентивным мерам против насилия, эгоцентризм, плюс страсть к социальным иерархиям. Любая ясная картина требует нюансов: «враждебные токсики» оказались чаще всего пожилыми, безработными, холостыми, религиозными, и из числа этнических меньшинств. Консерватизм, ощущение бедности и шальные эмоции — у них в комплекте. Зато с высшим образованием и любовью к собственному телу — чаще оказываешься в «антитоксиках». У «благожелательных токсиков» чаще есть партнёр (что немного удивительно) и религиозные убеждения, но они менее склонны к радикальному консерватизму, чем «враждебные». Возможно, это такие хранители традиций — с сюрпризом. А вот если вы молоды, не религиозны, живёте в нормальном районе и не видите смысла в лишней агрессии, скорее всего, вы попадёте в категорию умеренно терпимых или вообще в «антитоксики». Зато если убеждения у вас времен Ивана Грозного, и старших жизнью обиженных мужчин вы слушаете чаще, чем Тима Белорусских, прямая дорога в «анти-ЛГБТ» профиль. Конечно, исследование не безупречно. Во-первых, учёные предупреждают: не стоит думать, что пять профилей — это истина в последней инстанции, а сочетание параметров однозначно определяет личную судьбу. Во-вторых, опрос был в формате фотографии на память, а не марафона, то есть речь о статистике в конкретный момент, а не о вечных истинах. В-третьих — только гетеросексуальные мужчины и только Новая Зеландия. Ситуация в Якутии или Рио-де-Жанейро может выглядеть совсем иначе. Дальнейшие исследования, говорят, стоит проводить с участием других стран, представителей ЛГБТК+ и культур, где мужские роли прописаны совсем по-другому. И добавить к опросам измеряемую эмоциональную зрелость и честные вопросы о сексуальном насилии. Тогда, может, получится узнать, где на самом деле заканчивается мужественность — и начинается цирк с конями.
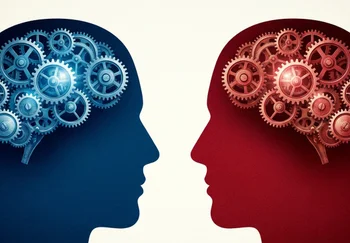
Правда — дело вкуса. Почему некоторые люди готовы учиться на ошибках, а другие — на телевизоре
Некоторые спорят с апломбом, размахивая статистикой и таблицами, другие же опираются на мнение очередного эксперта из телевизора или верят яркой истории из жизни. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, уверяет: за этим хаосом стоит логика, а именно — наши политические взгляды и умение думать аналитически. Оказывается, либералы и люди с развитыми навыками анализа предпочитают собирать максимально полную статистику. Им подавай все данные разом: мало ли, вдруг пропустишь что-то важное, и твоя аргументация не выдержит критики. Консерваторы и любители действовать на ощупь, напротив, хватаются за одинокие факты или мнения “экспертов”, избегая лишних деталей, словно они ядовиты. Автор исследования, Флориан Жюстван, профессор политологии (Университет Айдахо — это в США, где любят спорить о правах), объясняет: "Большинство работ смотрят, как люди усваивают уже полученные факты. Но как именно человек ищет информацию? Вот тут пробел — и его мы решили заполнить". Исследование проводили на 583 взрослых американцах. Всем предложили оценить эффективность реформы по освобождению под залог (cash bail reform) — это когда подозреваемых отпускают под денежный залог. В США сто городов ввели такую реформу, двести — нет. Задача: понять, стала ли после этого преступность ниже. Участникам приготовили "банк доказательств" — десять информативных кусочков, из которых можно было выбрать любые перед окончательным выводом. Часть данных — про цифры в городах с реформой и без, а часть — экспертные мнения больших политических игроков: Демократической и Республиканской партий, NRA (Национальная стрелковая ассоциация), и Центра американского прогресса (либеральный аналитический центр). Условно все способы поиска информации авторы делят на два лагеря. Первые — "категориальные". Это когда человек смотрит только на один показатель, например, только на рост преступности после реформы в выбранных городах. Из серии: “Слышал, вон у них украли велосипед — значит, реформа не работает”. Логика проста, но неказиста — нет контроля, нет сравнения. Вторые — те, кто ищет "ассоциативный" (или, проще, комплексный) подход: собирают все четыре важные числа — сколько преступлений стало больше и меньше в городах с реформой и без. С такой базой уже можно прикинуть, есть ли эффект на самом деле, а не просто плевать в потолок догадками. Любопытно, что замеряли и уровень “когнитивной рефлексии” — это когда человек не кидается на первое, что приходит в голову, а думает чуть подольше. Проверяли с помощью коварных задачек с подвохом, где очевидный ответ — неверный. И вот результат: чем выше рефлексия и аналитический настрой, тем больше человек требует полную статистику, а экспертов слушает меньше. Почему? Потому что в мире, где каждая "звезда экрана" — специалист по чему угодно, проще самому вникнуть в цифры, чем искать истину в партии прогнозов. Из интересного: те, кто все же обращался к экспертам, но отличался развитым аналитическим мышлением, обычно слушали обе стороны. Представьте: либерал, который читает не только слова своего любимого Центра американского прогресса, но и NRA — оплот республиканской Америки. А вот те, у кого с анализом туго, предпочитают слушать только своих. В сухом остатке — есть типажи "охотников за фактами". Одни собирают всё и сразу, другие хватаются за отдельные мнения или красивые истории. Кто-то хочет доказательств пожирнее и посуше, а кто-то готов поверить очередному гуру, если он совпадает с их мировоззрением. И главное, политические убеждения часто управляют нашими приемами поиска информации даже тогда, когда мы этого не замечаем. Естественно, исследование не идеально — люди в реальной жизни не выбирают факты из готового меню, как в ресторане. Они пишут запросы в поисковик, где правды и лжи намешано через край. Кроме того, выбранная тема — спорная, и неизвестно, изменятся ли результаты, если спорить будут не из-за политики, а, скажем, о погоде на завтра. И что люди делают с найденной информацией, исследование не изучало — только то, какую выберут для себя как главную. А впереди у ученых планы: понять не только, что люди считают "достаточным" доказательством, но и — как они соотносят доверие к источнику с самим содержанием. Потому что с появлением искусственного интеллекта и новых способов гулять по информационному полю, положение дел становится поистине цирковым. Кто знает, возможно, через пару лет уже боты будут решать за нас, какой факт считать убедительным. Итак, если в следующий раз вы увидите спорщика, который орёт "Моя статистика — крепче твоей экспертной оценки!", знайте: возможно, они оба просто жертвы своих мозгов и убеждений. А объективная реальность, как всегда, осталась где-то посередине, украденная очередной вирусной басней.

Гарри Поттер, предприниматели и магия девиации: кто на самом деле запускает бизнес
Новое исследование, аккуратно слепленное на стыке экономики и психологии, решило выяснить: может ли наша любовь к Хогвартсу что-то сказать о предпринимательских наклонностях в реальной жизни? Казалось бы — магия, выдумка, а штуки-то про бизнес весьма земные и осязаемые. Разобраться с этим взялись экономисты под руководством профессора Мартина Обшонка из Университета Амстердама. Они не поленились взгромоздить на один стол науку, статистику и Гарри Поттера, чтобы затем сделать вывод: если ты чувствуешь в себе черты Гриффиндора или Слизерина, есть шанс, что тебе не чужды предпринимательство и стартапы. Они не стали по-стариковски ковыряться в отдельных чертах характера: дескать, вот у этого усидчивость, а у этого склонность к риску. Нет! Эти ребята взяли за основу самую настоящую Волшебную Шляпу — домхаусинг из мира Дж. К. Роулинг. "Кто ты, Гриффиндор или Слизерина, а может быть, заклятый друг всех трудяг — Пуффендуй?" Да что там, почти 800 тысяч американцев согласились пройти специальный тест в рамках сотрудничества с TIME Magazine: отвечали на вопросы про амбиции, честность, смышленость, да даже про склонность к махинациям (что уж скрывать, с такими вопросами тест и Пуффендуй в депрессию введет). Результаты обработали умным алгоритмом, который делили по метрополиям и областям, и взяли данные американской статистики о количестве новых бизнесов. И знаете что? Там, где больше Гриффиндоров и Слизеринов — предпринимательская движуха, как буря в Хогвартсе, на семь процентов выше среднего. Притом ученые даже заморочились и вычли из расчетов такие штуки, как ВВП и плотность населения — так что магия тут минимальная, все по науке. Кто же эти герои-стартаперы? Гриффиндор — это не только, оказывается, юные идеалисты с манией геройства. Это храбрость, страсть к риску и самомнение приправленное моралью. Слизерин — тут вообще отдельный сорт стратегической наглости: амбиции на зависть дракону, расчетливость и мастерство гнуть правила в свою пользу, вместо того чтобы их ломать во имя идеи. Хоть мотивы у них разные, но тянет обоих к неспокойным водам бизнеса. Чтобы не обвиняли их в подлоге, ученые пошли дальше и устроили второй раунд: 820 человек из США, тщательно подобранных, чтобы не было перекоса. Результат тот же: если ты описан как Гриффиндор или Слизерин, твои шансы на запуск стартапа выше, чем у типичного Пуффендуйца или Рейвенкло. Даже отношение к бизнесу у "отклоняющихся" домочадцев явно бодрее. Пушки напряглись: а что же остальные? Пуффендуйцы, за разжалобленное место работы и честность до дрожи в коленях — им, судя по всему, проще оставаться верными старому доброму офису. Ведь бизнес — это прыгнуть в чан с акульими мальками, а кто тут будет честно делиться обедом? Рейвенкло, ослепленные своим умом и тягающие книги килограммами, к стартапам тянутся не чаще, чем сова к морковке. Мозги — это, оказывается, не пропуск в бизнес-класс компаний. Сам автор исследования чешет затылок: кто бы мог подумать, что сказочные разделения из книг окажут прямое влияние на реальную статистику бизнеса. Но! Все это лишь корреляция, не путать с магией: невозможно утверждать, что характер делает из пятиклассника Дадли Дурсли вдруг нового Илона Маска. Может быть и обратное: работа бизнесменом превращает волшебника в Слизерина, а в свободное время обратно в Пуффендуй. Вишенка на торте: влияние, хоть и есть, но довольно скромное. В жизни много чего влияет на успех стартапа — и фамилия, и наличие бабушки-староверки, и рынок. Но сам факт: измерять дух предпринимательства можно даже мерилом магических домов. Может, в следующий раз попробуют типологию героев "Игры престолов" — вдруг у зима там тоже стартапы подоспеют? Авторы исследования — Martin Obschonka, Teemu Kautonen, Tobias Ebert и Friedrich M. Götz. Если вдруг встретите их на конференции, знайте: они знают, кто в вас — Волдеморт или спасатель ежиков.

Мамы с Марса, папы с Юпитера: у кого конфликт растет вместе с детьми?
Исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, с испепеляющей очевидностью показывает: когда наступает родительство, мамы и папы словно переселяются на разные планеты. Пока отцы рассказывают, что ссоры в семье будто бы сходят на нет по мере взросления ребёнка, матери фиксируют противоположную картину — конфликт в отношениях только крепчает. Учёные взялись за масштабное longitudinal-исследование семей из США, где родители с младенчества до четырёхлетия ребёнка добросовестно отвечали на одни и те же вопросы: как часто и по каким поводам ругаются? Темы опросника — от бородатой классики вроде денег, домашних обязанностей и родственников до святых скреп в стиле "проявление чувств" или, на минуточку, "другие мужчины и женщины". В студии участвовали 2 282 подарка судьбы под названием «полные семьи», где оба родителя — и мать, и отец — прописаны по месту жительства. Исследование шло три волны: первый раз, когда малышу 9 месяцев, затем в два года и финальный аккорд в 4 года. Оба родителя анонимно и независимо друг от друга делились тем, насколько часто они спорят по перечисленным темам. Картина вышла сюрреалистическая. Папы постоянно сообщали о снижении количества ссор: чем старше дитя, тем спокойнее атмосфера. Мамы, напротив, фиксировали эскалацию конфликтов по мере взросления ребёнка. Видимо, папины локаторы на бытовые бури настроены иначе: их больше тревожили деньги, уборка и вопрос, чья очередь мыть посуду. Мамы же чаще отмечали взлетающий конфликт по вопросам, связанным с воспитанием отпрыска. Отдельно исследователи проверили, как мамины и папины впечатления от домашних бурь влияют на социализацию и эмоциональное развитие ребёнка. Выяснилось: если мама фиксирует рост напряжения, ребёнок рискует получить бонус в виде пониженных социальных и эмоциональных навыков. Даже если учесть материальное положение семьи, пол ребёнка, братьев и сестёр и темперамент малыша на старте — тренд сохраняется и не думает сдавать позиции. А как же папы? Тут всё гораздо более загадочно: снижение конфликтов в их восприятии никак не связано с душевным развитием чада. Единственное — если отец с самого начала видит в семье поле боя, то у ребёнка в дальнейшем могут пробуксовывать социальные навыки. Но вот дальнейшее "потепление" климата значения не имеет. Теперь вопрос на засыпку: что делать с такими несовпадающими реальностями под одной крышей? Авторы исследования считают, что разрыв восприятия — не повод разводиться, а сигнал: стоит чаще обсуждать происходящее, чтобы не терять контакт не только с собственным ребёнком, но и с собственной семьёй. Если не давать конфликтам разрастаться, есть шанс не превратить детскую в полигон испытаний новыми родительскими неврозами. Есть и пара нежелательных новостей. Исследование фокусировалось в основном на белых семьях, причем более вспыльчивые мамы из исследования чаще выбывали, так что отчёт о реальном градусе разногласий может быть занижен. Вся эта история ещё раз напоминает простую истину: восприятие семейных драм у разных родителей нередко расходится. Но, как ни крути, особенно внимательными стоит быть к тем штормам, которые замечает мама — именно они сказываются на ребёнке сильнее всего. Исследование провели Qiujie Gong и Karen Z. Kramer, и, кажется, им теперь впору выпускать не только статьи, но и настольные игры типа "Угадай, о чём сегодня поругаемся". Все совпадения с реальной жизнью — не случайны.

Во имя инноваций и семейных скреп: деспот у руля творит чудеса?
В нашем мире, где слово "авторитаризм" звучит, как диагноз из прошлого века, появилась новость, способная подпортить настроение любой бизнес-школе и курсу по командной работе. Оказывается, что когда глава семейной фирмы правит жёсткой рукой, инновации почему-то не только не погибают под пятой диктатуры, но порой даже расцветают как весенние одуванчики на поле капитализма — правда, только если фирма эта принадлежит именно семье. Исследование, опубликованное в Journal of Small Business Management, решило плюнуть на представление о предприятиях, где сотрудники делятся идеями за чашкой кофе и в обнимку бегут к успеху. Американские учёные из Mississippi State University, во главе с Chelsea Sherlock и компанией (David R. Marshall, Clay Dibrell и Eric Clinton), взялись за спорный вопрос: а вдруг кнут не хуже пряника, если речь идёт о семейном деле? Фирмы семейные — зверь отдельный. Тут не только доходы, но и ужины по праздникам, и обидчивые тёти, переплетающиеся с советом директоров. Вот за это переплетение некогда бизнес-писатели и гнобили такие компании: мол, слишком осторожные, слишком бережливые, на риски не подпишутся. Но с другой стороны — если семья решит, что надо потратить фамильный капитал на чудо-гаджет, никто и не пикнет. Тут-то и появляется фигура патриарха-мачо или матриарха-железной хватки. Авторитарный стиль — это про того, кто не слушает возражений, волевым решением отправляет всех на запуск новой линии шариковых ручек в 2024, и не спрашивает, кто сегодня отвечает за обеды. В обычных корпорациях подобный стиль часто означает одно — полёт персонала в карьерный обрыв и вечное "вы не команда, а тюремный этап". Но в семейном бизнесе ситуация вывернута наизнанку. Всё потому, что тут начальник — не только директор, а свой человек: мама, папа, двоюродный дядя, без которого ещё вчера никто не выходил из-за стола. Учёные повернули дело так: если начальство — свой до мозга костей, если каждый завтрак — битва за семейную честь, а бабушка с портретов глядит укоризненно, директивы воспринимаются как забота. Чем больше семья любит компанию, тем охотнее бросается на амбразуру инноваций по первому окрику главы. Исследование держит руку на пульсе глобального капитализма: 1 267 семейных компаний, 56 стран, всё по науке. Опросили директоров не про любимый борщ, а про инновации, руководящий стиль и, главное, про степень эмоциональной привязанности к фирме. Ведь если бизнес и вправду — продолжение фамилии, решения принимаются быстро, а инструкции начальства не вызывают бунта, а вызывают аппетит к работе. Однако ловушка: если у семьи эмоций к компании — как на третьем разводе, авторитаризм превращается в "режим тирана". Люди терпят либо из страха, либо до первого крупного скандала, инновации тут в лучшем случае бегают по кругу, а не креативят и не двигают бизнес. Строгость начальника без семейного клея — это уже цирк с головыми клоунами без зрителей. Но главное веселье начинается, когда учёные смешали все три ингредиента: стиль управления, глубину привязанности и, внимание, состояние экономики! В странах, где новые законы работают примерно как "выделенка" на московском шоссе (то едет, то нет) — Бразилия, Китай и прочие так называемые "развивающиеся рынки" — авторитарный лидершип с эмоциональной подушкой срабатывает на ура. Семейный коллектив сплачивается и несётся в светлое инновационное будущее, пока вокруг царит экономический апокалипсис. А вот Германия и США — тут держись, диктатор! В условиях сытых и предсказуемых рынков, где институты работают как швейцарские часы, попробуй только помахать кулаком: если нет сплочения, жёсткое руководство скорее заведёт фирму в тупик. Местным неинтересно слушать семейного царя без чувства причастности: для них автократическая хватка — это анахронизм, не более. Мораль сей басни? Семейный бизнес — не армия и не анархия. Нет универсального рецепта, когда жёсткий стиль — двигатель прогресса, а когда — путь в застой. Всё зависит от того, насколько эмоции и экономика готовы принять вашу историю семейных диктаторов. Исследование оставило место для скепсиса: данные собраны в один конкретный момент, а не в длинном сериале по годам. Вдруг всё не наоборот — сначала фирма инновационная, а потом там все становятся деспотами? И, конечно, не проверяли, что там у гигантских корпораций семейных, где на офис четыре этажа наследников. Но урок прост: если хотите инноваций с жёсткой рукой — не забывайте приклеить семью к фирме не только капиталом, но и чувствами. Ну а иначе — хоть билдите стартап, хоть держите семейный завод, играть в начальника лучше вдумчиво. Даже если вы примерили корону домашнего тиранчика — без любви и преданности вас не поддержат. А бизнес без поддержки семьи — это уже не семейный бизнес, а просто частное предприятие с диктатором на борту.
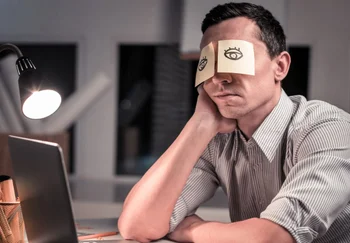
Босс на паузе: почему руководители тихо «саботируют» работу?
Новое исследование, опубликованное в Acta Psychologica, решило взглянуть на проблему "тихого увольнения" под неожиданным углом — через призму человеческой гадости, иначе говоря, прославленного "тёмного трио" личностных черт. Оказалось, что руководители, обуреваемые нарциссизмом и психопатией, куда чаще остальных предпочитают работать ровно настолько, чтобы их не выгнали, и не на йоту больше. Почему? Всё просто: они убеждены, будто им все должны, или легко находят оправдания собственной лености. "Тихое увольнение" — термин из недавних лет, означающий ситуацию, когда сотрудник ограничивается исключительно обязанностями, прописанными в должностной инструкции, и не рвётся на подвига за КПИ и корпоративное братство. Обычно этот феномен объясняют низкой зарплатой или выгоранием. Но мало кто задумывается: может быть, дело не только во внешних обстоятельствах, а в самой закваске человека? Учёные хотели выяснить, не виновато ли тут печально известное "Тёмное трио" — набор личностных качеств, включающий нарциссизм (самолюбие и жажду признания), макиавеллизм (манипулирование ради собственной выгоды) и психопатию (отсутствие эмпатии и склонность к асоциальному поведению). Эти черты давно связывают с токсичными выходками на работе — от воровства до агрессии — но что насчет ленивого ухода в тень? По словам автора исследования, старшего научного сотрудника Hanfia Rahman из Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad, проблема "тихого увольнения" всё чаще мучает HR-ов и топ-менеджеров: вроде бы и люди на местах, а толку — как от пластиковых растений в офисе. Причем найти провинившегося и "разбудить" его непросто: всё слишком завуалировано и двусмысленно. Организации, как обычно, размахивают лозунгами "Ваша вовлечённость — наше всё!", но по факту не понимают, кто склонен уходить в подполье и почему. Учёные наконец-то взялись за этот психологический ребус: привлекли 402 руководителя из IT, банков, здравоохранения и производства по всей Индии (средний возраст около 37 лет), собрали их мнения и эмоции онлайн и лично, а потом подвергли анатомическому анализу. Замеряли уровень "темного трио" с помощью опросников: кто манипулятор, кто обожает внимание, кто просто ведом холодной логикой. Дополнительно — ощущение, что "я достоин большего" и оправдание своих сомнительных поступков. Результаты получились, мягко говоря, нелицеприятные. Нарциссы и психопаты массово демонстрировали психологическую убеждённость, что компания им обязана — а когда эта фантазия разбивалась о суровые реалии, они тут же начинали экономить собственные усилия. Более того, нарциссизм и психопатия тесно связаны с моральной глухотой: такие руководители от души находили себе оправдания, чтобы ничего не делать. Вот уж у кого совесть — себе на уме! И похоже, именно моральное самооправдание становится прологом к "тихому увольнению". А как же макиавеллизм? Тут засада: в простом подсчёте макиавеллианцы вроде бы склонны тоже тихонечко саботировать. Но как только в исследование включают всю тёмную компанию — уникальный вклад макиавеллизма куда-то испаряется. Почему так? Похоже, эти товарищи хитрее других: если нет прямой выгоды, зачем напрягаться в уходе? Они скорее предпочтут сделать ровно столько, чтобы остаться в игре и не потерять рычаги влияния. То есть изменчивые как хамелеон — и сами себе на уме. В результате учёные резюмировали: все эти прекрасные черты и психологические перестроечные процессы объясняют львиную долю причин, по которым начальство вдруг тихо "выключается" из работы. Модель предсказывала около 65% тяги к "тихому увольнению"! Получается, что душевный склад не менее важен, чем бонусы или стиль руководства. Rahman уточняет: никакой мистики, никакой роковой предопределённости. Быть нарциссом или психопатом — ещё не значит автоматически стать штатным тихушником. Всё индивидуально, роль играют и обстановка, и методы управления. Но с другой стороны: именно нарцисс и психопат скорее всего начнут себе оправдывать снижение усилий, особенно если ожидают сверхнаград или не чувствуют нравственной связи с работой. Так что если ваш шеф вдруг стал напоминать оборотня при полной луне — задумайтесь, может дело вовсе не в зарплате или бизнес-процессах, а в душе (или её отсутствии). Есть, конечно, ограничения. Всё исследование — фотографии одного дня: учёные не могут доказать, где причина, а где следствие. Может, сначала человек начинает лениться на работе, а уж потом у него крепнет "право на всё"? Кроме того, выборка ограничена индийскими руководителями — а нормы труда и отношения к иерархии у нас и у них могут отличаться как чай и кофе. Нужно повторять такой же анализ в разных странах, чтобы понять — действительно ли душа руководителя глобально влияет на вовлечённость. Авторы исследования честно предупреждают: не спешите вешать ярлыки. Есть только тенденция, повышенный риск, а не гарантия что нарцисс из соседнего кабинета обязательно уйдёт в тень. "Тёмное трио" повышает вероятность — но не обязывает. Так что если коллега ничего не делает, проверьте — может быть, он просто вас перерос... или не дорастёт никогда.