Исследования по тегу #политика

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.
В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.
Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.
Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.
Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Администрация вузов и политика: кто тут кому мешает?
Новая исследование опрокидывает расхожий миф о том, что американские консервативные студенты чуть ли не герои подполья из-за якобы тотальной дискриминации со стороны вузовских администраций на своих кампусах. Всё оказалось проще: двери бюрократической машины одинаково скрипят и перед либералом, и перед консерватором. Работа опубликована в солидном журнале Political Behavior, так что не очередной телесериал «Что вы знаете о либералах?». Всё это началось не с глобального заговора, а с банального недоверия: республиканцы всё больше ворчат, мол, колледжи не уважают правых и мечтают их «отменить». Помочь понять, есть ли мифическая дискриминация на самом деле, решила профессор Политической науки Джессика Хан из Northwest Florida State College. Для мотивации ей хватило одного собрания, устроенного в 2017 году активистами Turning Point USA — это такая консервативная студенческая тусовка, — где с трибуны вещали: консерваторов везде притесняют! Доказательств, как водится, было ноль. Живой «РЕН ТВ», только американский. Хан решила не верить на слово и замутила эксперимент, достойный секретных агентов, — так называемый correspondence experiment. Суть проста: берём «виртуального студента» с разной политической окраской, пишем администрации вуза простое письмо о помощи — например, как создать студорганизацию или зарезервировать аудиторию под лекцию. Ответы анализируем по строго научному методу: ответили/не ответили, если ответили — помогли/отфутболили, насколько быстро проснулись. Теориям тут тоже место нашлось. Есть, например, social identity theory — она говорит, что свои всегда помогают своим, а чужих гонят. Администраторы обычно либеральны, значит, должны бы с консерваторами обращаться как с забытым родственником на семейном ужине. Но есть и теория госслужбы: мол, бюрократия по уставу должна относиться ко всем одинаково, даже если начальник мечтает о хиппи-коммуне. В первом эксперименте 1 470 сотрудников студактива по всей стране получили письма от некоего Бретта Кларка. В письмах Бретт то либерал, то консерватор, то вообще политической ориентации не обозначал (для контроля). Все письма были на одном уровне: формальные, слегка неаккуратные (чтобы поверили, что студент писал), без 'привет, поставь пятёрку'. Результаты — хоть в мемориальный зал скепсису. Ответили либералу 65% раз. Консерватору — 66%. Разницы никакой. Да и по сути: почти одинаковое число полезных, содержательных ответов обеим группам. Более того, консерватору отвечали даже чуть быстрее, правда, это разница между «проспал до трёх» и «проспал до четырёх» — за полдня никто под стол не провалился. Вторая часть — заявки на аренду аудитории для политического ивента. 1 439 администраторов (почти как первая волна) получили письмо от нового героя: теперь это Брэдли Шварц. История та же: либерал, консерватор, нейтрал. Ответили и тем и другим ровно по 54%. Помогали одинаково, с той же энтузиазмом чиновника отдела прописки. А вдруг, предположите вы, есть разница между вузами во «враждебных» уголках страны — где за Трампа голосовали, и в «либеральных оплотах»? Проверили и это, сравнив с итогами выборов 2016 года. Местная политика не повлияла: и среди горячих фанатов Трампа, и среди адептов Клинтон администрация вузов соблюдала свою традицию великого равнодушия. К чему всё это ведёт? Бюрократическая машина, несмотря на нюансы, работает одинаково для всех — и призрак дискриминации остался, как выяснилось, только в рассказах у костра и тревожных заголовках Fox News. Конечно, исследование не обещает, что на каждом шагу нет предвзятости — вдруг кто-то на стадии регистрации документа решит показать характер. Оно и не изучало ни работу преподавателей, ни хитросплетения студентческого общения. Речь только о первой линии обороны — админресурсе. Джессика Хан подытожила: случаи, когда консерваторов выгоняют с кампусов или отменяют их мероприятия, существуют. Но для большинства студентов эти истории — редкость, а не суровые будни. Получается, что реального системного барьера на входе нет. А миф о «университетах, разрушающих свободу слова» — это больше про рейтинг новостей, чем про факты. Остаётся лишь расследовать, откуда родом это ощущение несправедливости: может виноват эффект громкой сенсации, а может — личные истории, которыми обрастают предрассудки. Профессор Хан предлагает: стоит бы ещё разобраться, благодаря чему удается удерживать такую нейтральность — не исключено, дело в специальных тренингах по борьбе с дискриминацией или особых правилах, которыми себя связывают. Вывод? Если вам надо создать консервативную студорганизацию, берите пример с Бретта Кларка и Брэдли Шварца – пишите админам смело. Они в любом случае ответят с тем же энтузиазмом, как вы и ожидали: без лишних эмоций, строго по форме и инструкциям.

Смех на вынос: Как Трамп и Окасио-Кортес превращают юмор в политическое оружие
Американская политика нашла новое боевое искусство — его зовут юмор. Но не тот, который собирает залы на концертах или вызывает добрую улыбку у бабушки у телевизора, а хлёсткий, как плеть, и ядовитый, как укус скорпиона. Последние исследования показывают: современные политики, такие как Дональд Трамп и Александрия Окасио-Кортес, давно превратили шутки в дубинку для оппонентов и цемент для собственного электората. Этим занимательным (и, будем честны, немного извращённым) вопросом заинтересовался Беер Пракен, соискатель степени PhD из Университета Гронингена и гость-исследователь в Университете Утрехта. Он задался вопросом — что это за эволюция такая, когда политический юмор перестаёт быть вишенкой на демократическом торте, а превращается в основной ингредиент, да ещё и с привкусом желчи? Неужели теперь мем — это не отпрыск интернет-культуры, а инструмент влияния на умы? Серьёзные учёные раньше видели в политическом юморе средство борьбы за справедливость или подпитки демократии. Теперь же Пракен решился выйти за пределы привычного анализа шуток стендаперов и разобраться: как сами политики управляют смехом — не для разрядки, а для атаки. Ведь недовольство — это понятно, а как же роль веселья и игры в этих, казалось бы, суровых дебатах? То, что обычно приписывают крайним правым — гнев и страх, — оказалось только одной стороной медали. Вторая, куда менее очевидная, — умение подлито подшутить, а иногда и грубовато поддеть, особенно когда это касается внедрения спорных идей. Возьмём Трампа: история с Гренландией начиналась как смехотворный троллинг, но кто считал, что в мире после 2016 года остались вещи, которыми нельзя шутить всерьёз? Пракен «загоняет» свои научные щупальца в дебри твиттеров обоих героев и триумфальные речи мая 2019-го. Для чистоты эксперимента — почти 500 твитов и три крупных выступления: два у Трампа (Флорида и Пенсильвания), одно у Кортес (Вашингтон и их "Зелёная Новая Сделка"). Далее в ход идёт лабораторный метод — категоризация юмора на четыре сорта: агрессивный, объединяющий, самовосхваляющий и самоедский. Первая разновидность — это когда словесный кнут щёлкает по чужой спине (любимый жанр политиков), вторая — когда шуточки склеивают сторонников в одну крепкую компанию. Контроль и точность на высоте — к анализу подключали сразу нескольких кодировщиков, чтобы уж никто не обвинил учёных в личной симпатии или антипатии к кому-то из героев. На выходе — весёлые вещи: Трамп фонтанирует юмором с трибуны (в среднем раз в минуту), но на просторах Twitter становится гораздо менее остроумным: только 9% его сообщений содержат хоть тень шутки, и 92% из них — это откровенное словесное нападение. Кортес же — полная противоположность: за трибуной она строго как на похоронах демократии, зато онлайн — почти стендап-комик: 29% её твитов за месяц были смешными, но опять же — по-прежнему в стиле "удар ниже пояса". Если вам казалось, что политика — это скука и бюрократия, самое время пересмотреть взгляды: всё мировое шоу давно переселилось в соцсети. Юмор у политиков — это не способ разрядки, а способ объединения "своих" и выставления "чужих" на посмешище. А ещё — хитрый щит: если волна негодования поднялась, всегда можно списать сказанное на шутку: "Вы что, не поняли? Это же просто стёб!". Особенно, если поступаешь по рецепту Трампа: сначала шутишь о диктатуре, а потом отмахиваешься, мол, опять либералы ничего не поняли. У Трампа есть фирменный жанр: "жидкий расизм" (да, даже у расизма появился водянистый формат). Это когда шутки строятся на стереотипах, но всегда есть где спрятаться: "Я же пошутил!". Например, однажды на митинге он в шутку объяснил, как отличить террориста по… внешности. Толпа покатилась со смеху. Кто-то скажет: "юмор", а кто-то увидит в этом вполне себе руководство к действию. Кортес — человек тоже не промах. Ловко уходя от критики своих громких (и не всегда точных) заявлений, она не стесняется пустить шутку в бой: мол, хулиганы-хейтеры, юмор у вас как у персонажа Дуайт Шрут из зарубежного ситкома "Офис" (да, есть такой комичный ботаник-начальник в американском сериале — англоязычная публика смеётся, а у нас гуглят картинку). Проигнорировать обвинение легко, когда можно высмеять критика, а не признавать ошибку. Исследование выдало неприятную правду: смех давно перестал быть безобидной выдувкой. Это уже элемент троллинга, когда политик нарочно раздражает оппонентов, чтобы вызвать всплеск эмоций. У Трампа это шутки про пожизненное президентство, у Кортес — издёвки над экономикой и сравнения противников с персонажами ситкома. Пракен придумал для этого всего романтичное название "тёмная игра". То есть весёлая провокация становится лабораторией для опасных идей: если публика среагировала агрессивно, всегда можно откатить: "пожурите меня, я несерьёзно". А если нет — глядишь, и идею приняли всерьёз, и уже не шутка. Вишенка на торте: сами политики заигрываются до того, что начинают верить в собственные шутки — превращая их из мемов в проекты и лозунги. Это называется "тёмное поглощение": так, один раз посмеявшись, незаметно идёшь дальше… к радикализации. Смех — лакмус теста для публики: если прошло, можно тащить это на главную сцену. Пракен честно признаёт: исследовал он только двух политиков и только месяц историй, так что выводы не универсальны для всей Земли. Да и влияние юмора на самого зрителя — тема для отдельной, очень полной психотерапии. Следующий шаг — опросить избирателей и понять, как они воспринимают эти игры. Плюс Пракен заглядывается на ещё более радикальных персонажей — вроде белого националиста Ника Фуэнтеса, который сам себя называет "почти комик" и проталкивает свои весьма токсичные взгляды с помощью смешочков. Эпилог от Учёного: никто не предлагает запрещать политический юмор или давить свободу слова. Но пора перестать воспринимать все закулисные остроты как милую глупость: сегодня это не просто словесный карнавал, а мощный рычаг для продвижения идей (причём самых неожиданных). И если вы считаете, что право радоваться юмору — монополия либералов, стоит присмотреться к противникам: их ирония тоже бывает опасно заразительной. Остаётся ждать, что покажут новые исследования. Но уже сейчас понятно: где заканчивается шутка — там иногда начинается реальность.
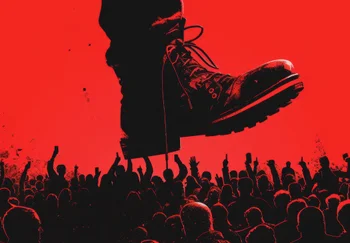
Почему популисты идут в народ: два типа фанатов "сильной руки" и где они водятся
Исследование, проведённое с размахом сразу в девяти странах, решило разобраться, кто же набивает армию поклонников у популистских лидеров. Получилось довольно неожиданно: на самом деле, популистскую аудиторию можно спокойно делить на два непохожих лагеря. В странах типа Италии, Венгрии, Польши, Испании, Бразилии и Аргентины рвутся за своими вождями в основном те, кто жаждет жёсткой руки, порядка и чтобы всяким чужакам жизни мёдом не казалась. А вот, например, во Франции и Канаде рулит натуральное возмущение элитами — люди устают от заносчивых политиков и лелеют мечту вернуть власть в руки народа. И, вдобавок, США оказались чемпионатом отдельным — там эти две динамики почему-то не играют заметной роли вообще. Поясним по понятиям: популисты — это те, кто обещает быть голосом "простого народа", изображая борьбу против коварных, алчных, забывших людей элит. Маски разные: слева общество пугать капиталами и разницей между богатыми и бедными; справа – раздувать тревогу вокруг национальной идентичности, мигрантов, катастрофического внешнего влияния и прочих угроз. В любом случае, на первом плане всегда спектакль "мы против них". Простота, максимальный эпатаж и минимум уважения к экспертам – то, что доктор-популист прописал. Исследование велось под патронажем двух отчаянных учёных — Anna Brigevich и Andrea Wagner; они загнали тысячу респондентов из каждой страны (всего 9000 человек) отвечать на каверзные вопросы. Отбирали, чтобы совпадали по возрасту и полу с населением страны, и ещё учли, откуда сам респондент — чтобы не получилось, что вся картина только из столиц и мегаполисов. Почему были выбраны именно эти страны? Например, в Италии, Франции, США и Канаде аккурат перед этим популизм правого толка вышел на первые роли. В США, несмотря на давнюю любовь к левому популизму столетней давности, теперь всё больше слышно правых радикалов — ну и, конечно, культовые имена вроде Трампа или его оппонентов-социалистов (Bernie Sanders или Alexandria Ocasio-Cortez). В Бразилии, Испании и Аргентине традиционно были сильны левопопулисты – там быть "за народ" принято чуть более нежно и с оглядкой на малозащищённые слои. А уж в Венгрии с Польшей – полный спектр национализма, где "порядок" важнее многоголосия. Названия и лица в исследовании не баловали разнообразием – все исследуемые лидеры оказались из лагеря правых. Засветились тут такие персоналии, как Marine Le Pen (Франция), Giorgia Meloni (Италия), Donald Trump (США), Pierre Poilievre (Канада), Santiago Abascal (Испания), Jair Bolsonaro (Бразилия), Javier Milei (Аргентина), Viktor Orbán (Венгрия) и Andrzej Duda (Польша). Анкета была непростая: автора интересовала, насколько народ верит во власть народа (people-centrism), ненавидит элиты (anti-elitism), мечтает о прямой демократии (majoritarianism), скучает по твёрдому лидеру (strongman), ценит политические умы (elitism) и болеет национализмом. Оказалось, что ненависть к верхушке и вера в народ тянутся друг к другу как двое на школьной перемене, составляя антиэлитарный настрой. А вот любовь к "крепкой руке", элитарности и национализму объединены одной идеей — авторитарной. В финале выяснилось: если в Италии, Венгрии, Польше, Испании, Бразилии и Аргентине ты хочешь голосовать за популиста, напрягайся быть сторонником строгих порядков, национального единства и лидера, способного настучать по столу. Во Франции и Канаде же наибольшей популярностью у популистов пользуется идея сбросить политический балласт и избавить страну от удушливого засилья элит. А вот Америка, как ни старались, не подпадает ни под одну классификацию. То ли у них смесь выведена мутная, то ли просто все устали от политики вообще. Какой вывод? Популисты, вроде бы, все одинаково шумные, но на поверку — за каждым шумом скрывается свой особый психотип фаната. То ли железная рука с арматурой, то ли тоска по "обычному человеку" во главе. Исследование, конечно, разбиралось только с правыми лидерами. Возможно, у леваков свои методы магии.
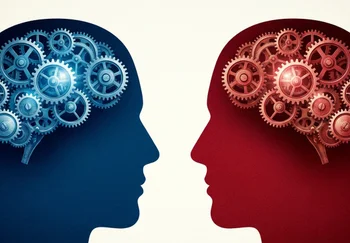
Правда — дело вкуса. Почему некоторые люди готовы учиться на ошибках, а другие — на телевизоре
Некоторые спорят с апломбом, размахивая статистикой и таблицами, другие же опираются на мнение очередного эксперта из телевизора или верят яркой истории из жизни. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, уверяет: за этим хаосом стоит логика, а именно — наши политические взгляды и умение думать аналитически. Оказывается, либералы и люди с развитыми навыками анализа предпочитают собирать максимально полную статистику. Им подавай все данные разом: мало ли, вдруг пропустишь что-то важное, и твоя аргументация не выдержит критики. Консерваторы и любители действовать на ощупь, напротив, хватаются за одинокие факты или мнения “экспертов”, избегая лишних деталей, словно они ядовиты. Автор исследования, Флориан Жюстван, профессор политологии (Университет Айдахо — это в США, где любят спорить о правах), объясняет: "Большинство работ смотрят, как люди усваивают уже полученные факты. Но как именно человек ищет информацию? Вот тут пробел — и его мы решили заполнить". Исследование проводили на 583 взрослых американцах. Всем предложили оценить эффективность реформы по освобождению под залог (cash bail reform) — это когда подозреваемых отпускают под денежный залог. В США сто городов ввели такую реформу, двести — нет. Задача: понять, стала ли после этого преступность ниже. Участникам приготовили "банк доказательств" — десять информативных кусочков, из которых можно было выбрать любые перед окончательным выводом. Часть данных — про цифры в городах с реформой и без, а часть — экспертные мнения больших политических игроков: Демократической и Республиканской партий, NRA (Национальная стрелковая ассоциация), и Центра американского прогресса (либеральный аналитический центр). Условно все способы поиска информации авторы делят на два лагеря. Первые — "категориальные". Это когда человек смотрит только на один показатель, например, только на рост преступности после реформы в выбранных городах. Из серии: “Слышал, вон у них украли велосипед — значит, реформа не работает”. Логика проста, но неказиста — нет контроля, нет сравнения. Вторые — те, кто ищет "ассоциативный" (или, проще, комплексный) подход: собирают все четыре важные числа — сколько преступлений стало больше и меньше в городах с реформой и без. С такой базой уже можно прикинуть, есть ли эффект на самом деле, а не просто плевать в потолок догадками. Любопытно, что замеряли и уровень “когнитивной рефлексии” — это когда человек не кидается на первое, что приходит в голову, а думает чуть подольше. Проверяли с помощью коварных задачек с подвохом, где очевидный ответ — неверный. И вот результат: чем выше рефлексия и аналитический настрой, тем больше человек требует полную статистику, а экспертов слушает меньше. Почему? Потому что в мире, где каждая "звезда экрана" — специалист по чему угодно, проще самому вникнуть в цифры, чем искать истину в партии прогнозов. Из интересного: те, кто все же обращался к экспертам, но отличался развитым аналитическим мышлением, обычно слушали обе стороны. Представьте: либерал, который читает не только слова своего любимого Центра американского прогресса, но и NRA — оплот республиканской Америки. А вот те, у кого с анализом туго, предпочитают слушать только своих. В сухом остатке — есть типажи "охотников за фактами". Одни собирают всё и сразу, другие хватаются за отдельные мнения или красивые истории. Кто-то хочет доказательств пожирнее и посуше, а кто-то готов поверить очередному гуру, если он совпадает с их мировоззрением. И главное, политические убеждения часто управляют нашими приемами поиска информации даже тогда, когда мы этого не замечаем. Естественно, исследование не идеально — люди в реальной жизни не выбирают факты из готового меню, как в ресторане. Они пишут запросы в поисковик, где правды и лжи намешано через край. Кроме того, выбранная тема — спорная, и неизвестно, изменятся ли результаты, если спорить будут не из-за политики, а, скажем, о погоде на завтра. И что люди делают с найденной информацией, исследование не изучало — только то, какую выберут для себя как главную. А впереди у ученых планы: понять не только, что люди считают "достаточным" доказательством, но и — как они соотносят доверие к источнику с самим содержанием. Потому что с появлением искусственного интеллекта и новых способов гулять по информационному полю, положение дел становится поистине цирковым. Кто знает, возможно, через пару лет уже боты будут решать за нас, какой факт считать убедительным. Итак, если в следующий раз вы увидите спорщика, который орёт "Моя статистика — крепче твоей экспертной оценки!", знайте: возможно, они оба просто жертвы своих мозгов и убеждений. А объективная реальность, как всегда, осталась где-то посередине, украденная очередной вирусной басней.
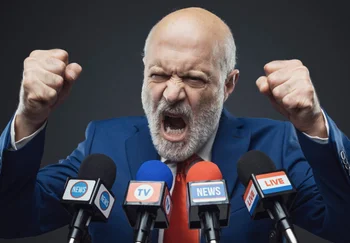
Как наши политические взгляды превращаются в клуб фанатов радикалов
Психологи из Columbia University устроили настоящее научное расследование: почему нам всё больше нравятся политики на максималках — те, кто обещает или всё поменять, или наоборот, запретить буквально всё подряд? Причём не только в США, но и у нас похожее можно наблюдать: чем шумнее лозунги, тем больше аплодисментов. И, вот не поверите, корень проблемы не в какой-нибудь неправильной организации выборов, а у нас в головах — то есть, в том, насколько политика становится частью нашей личности. Вместо вечных разговоров про «систему», команда Мохамеда Хуссейна решила спросить: может, нам просто важно, КАК мы относимся к вопросу? Ну знаешь, когда спор о чём-то превращается в дело принципа, потому что «это же не просто моё мнение, это моё Я!». Для чистоты эксперимента американцев поделили на группы и заставили читать про несуществующего кандидата Сэма Беккера, кандидата в конгресс США. Кто-то узнал, что Беккер — умеренный парнишка в вопросе климата, кто-то — что Беккер, наоборот, экстримал с пламенным сердцем. Чем сильнее участники считали экологию частью своей личности, тем сильнее они склонялись ко второму варианту. Причём, чем больше исследователи подогревали ощущение «это — про меня», тем серьёзнее участники размахивали флагом радикализма: «Дайте нам Беккера-революционера!» Эксперимент продолжили: участников поставили перед выбором между парой кандидатов — умеренный или на максималках, а вопросы были про аборты, оружие, мигрантов, трансгендерные права и климат. Пять из пяти: кто считает, что вопрос — про его собственную личность, тот снова за радикалов. Не довольствуясь очевидным, психологи решили зайти с парадоксальной стороны: внушить людям, что какая-то абсолютно далекая тема — например, субсидии на кукурузу (для большинства это так же жизненно, как новости о марсоходах) — теперь важнейший приоритет их партии. И угадайте что? Люди, которые верили, что партия начала жить этим вопросом, начали чувствовать себя коренными поборниками кукурузных реформ и — сюрприз! — хотели самых суровых перемен в сельском хозяйстве. Всё это не ограничивалось только американскими демократами. В финальном ударе по человеческой рациональности ученые придумали несуществующую инициативу — загадочное «Prop DW», которую участникам никак не объяснили. Половину убедили, что партия выбрала сторону, — эта половина вмиг воспылала страстью к крайним взглядам по несуществующему вопросу. Как вам такой улов мозга? Ещё интересней: оказалось, что дело даже не в реальных знаниях или морали, а в «чувстве внутренней истины»: если человеку внушили, что его «я» зависит от мнения по теме (даже высосанной из пальца), — он срочно требует, чтобы все вокруг были по одну сторону баррикады. На десерт: бесстрастная машина — искусственный интеллект — помог людям поразмышлять о том, как их взгляды по, скажем, кукурузным дотациям связаны с их смыслами жизни. Итог? После пары минут медитаций все хотели только одного: ясности. А ясность, как выяснилось, — это желание, чтобы твоя позиция была простая и чёткая. А чём проще и чётче, тем больше шансов скатиться в крайности. И вот вывод, достойный психологической саги: ради чувства собственной важности и принадлежности мы готовы поверить в крайне радикальные решения, даже когда речь идет о вещах, о которых ничего не знаем. Притом неважно, демократ ты или республиканец. Может, если нам удастся чуть-чуть меньше примерять политические вопросы на себя, то появится шанс остаться людьми, а не группой экстремалов с лозунгами вместо лиц. Хотя, конечно, надеяться на здравый смысл человечества — это уже из разряда фантастики.

Как американские политики натирают свой цифровой фасад до блеска: что они стирают из соцсетей — и зачем
Ну что, верите своим депутатам, глядя на их аккуратные странички в соцсетях? Надеетесь узнать человечка получше — ан нет: всё, что хоть как-то напоминает о том, что у политика тоже есть семья, собака, отпуск или парочка закадычных друзей в парламенте, отправляется в корзину быстрее, чем бурыки на даче осенью. Учёные решили проверить, буквально ли наши избранники трут свои интернет-прошлое так же усердно, как пенсионер закусывает водку. Исследование провели: Сиюань Ма и Ваньжун Ли из университета Макао, а также Цзюньи Хань из немецкого Института медиаграмотности im Leibniz-Institut für Wissensmedien. Они выбрали самую драматичную сессию — 116-й созыв Конгресса США (с января 2019 по сентябрь 2020 года), когда и Трамп попал под попытку импичмента, и пандемия COVID-19 ходила по миру. Парни и девушки из науки были не лыком шиты и запустили сервис Politwoops — настоящий архив удалённых твитов американских политиков. В итоге под микроскоп попали почти 30 тысяч исчезнувших твитов и более 800 тысяч тех, что ещё торчат на странице. Что вы думаете? Самыми популярными для удаления оказались посты о семье, хобби, вояжах и других человеческих заморочках. В теории политикам советуют быть ближе к народу — мол, покажи себя на шашлыках, и народ проникнется. Практика же говорит: попробуй только — сам себя потом и удаляй из интернета, чтобы никто этого не видел. Очень любят американские слуги народа чистить посты, где упоминаются коллеги. Потому что нельзя знать заранее, не вляпается ли твой товарищ в какой-нибудь громкий скандал — и тогда все твои лайки и улыбочки станут уликами в суде общественного мнения. Так что, по простой схеме: "лучше перебдеть, чем недобдеть" — и вперед в чистку. Зато ругать чужую политику никто не стесняется. Критика и наезды на оппонентов висят годами — видимо, это признак настоящей зрелости и политической взрослости. Народ должен видеть, что депутат — не просто декорация, а настоящий рубака на словах, защищающий интересы своих избирателей. Есть ли при этом в этих твитах фейки, наглое враньё, теории заговора? Удивительно, но нет. Исследование не выявило системы в распространении откровенной лжи: политики и в публичных, и в удалённых твитах стараются не выходить за пределы фактов (или хотя бы стараться не светиться с явным бредом). Партийная дисциплина — как курс молодого бойца, пресная, но обязательная к проглатыванию. Отклонения от партийной линии практически не встречаются: никто не хочет оказаться белой вороной или стать мишенью для своих же. Представители демократов и республиканцев одинаковы в этом как две капли однотипного политического фрагмента. Интересно и то, что члены Палаты представителей США охотнее стирают свои твиты, чем их более статусные коллеги из Сената. И дело тут не в том, что одним дольше жить — у сенаторов шестилетний срок полномочий и спокойно лежащий округ за спиной, а у представителей каждый второй год новые выборы. Где не так — ошибся, завтра и кресла не будет: вот и приходиться следить, чтобы ни одна соринка не попала на личную страничку. Конечно, любая наука — не без шероховатостей. Анализ делался на выборке, а не на всех почти миллионе записей, так что есть шанс не заметить самый редкий (но, быть может, самый сочный) прецедент. Финансирования на более чудесные машинные анализы хватило бы только после грандиозной победы в "Что? Где? Когда?" — но, увы, не судьба. Зато авторы предлагают в будущем натравить на эту тему нейронные сети и проследить за всем массивом политического хайпа. Что из этого всего вынести? Пока избиратели листают соцсети с надеждой на откровения, им скармливают только вылизанный имидж: всё личное выметено, критика развешена на передний план, а серьёзное выражение лица стало едва ли не частью dress-кода. Думаете, за этим стоит честность и открытость? Статья "More criticisms, less mention of politicians, and rare party violations: A comparison of deleted tweets and publicly available tweets of U.S. legislators" — результат работы Сиюань Ма, Цзюньи Хань и Ваньжун Ли.

Консерваторы на «скользкой дорожке»: почему интуиция ведёт правых к крайним выводам
Свежие исследования показали любопытную картину: люди, считающие себя политическими консерваторами, куда чаще находят логичным знакомый до боли приём «скользкой дорожки» — аргумент, что безобидное на первый взгляд событие непременно завернёт прямиком в катастрофу. И дело тут вовсе не в каких-то злых умыслов, а в банальной особенности мышления: консерваторы чаще полагаются на интуицию, а вот либералы предпочитают тщательно анализировать происходящее. Результаты опубликовали в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Но давайте разберёмся по порядку — и, возможно, поймём, откуда такие страсти на кухнях, форумах и трибунах. Аргументы «скользкой дорожки» повсюду: в политике, этике, да хоть в спорах о количестве печенек после шести вечера. Суть проста: сделаешь сегодня одну маленькую глупость — завтра окажешься в объятиях Тартарена. В пример приводят ту же печеньку: съел одну — через неделю не влезешь в лифт. Почему же одни сразу видят в этом логику, а другие крутят пальцем у виска? Соавтор исследования, Раджен Андерсон из Лидского университета, признаётся: до сих пор психологи почти не разбирались, кто и как ведётся на такие доводы. Зато в философских кругах — рассуждай не хочу! Вот учёные и взялись посчитать: какие политические взгляды чаще ведут к вере в такие обострённые прогнозы? Они предположили три вещи: или крайние и с той, и с другой стороны одинаково любят простые объяснения, или либералы из-за широты взглядов тоже клюют на скользкую логику, или же больше всех подвержены этому именно консерваторы. А чтобы не метаться между теориями, соорудили аж пятнадцать разных исследований — с опросами, экспериментами и анализом соцсетей. Тысячи испытуемых из США, Нидерландов, Финляндии и Чили вливались в стройные ряды подопытных. В самых первых экспериментах участникам предлагали прочитать короткие сценки — например, про то, как человек прогуливает работу или забывает перемыть посуду. Потом их просили оценить: звучит ли аргумент «а дальше всё только хуже» логично? Параллельно отмечали политическую позицию — от откровенного левизны до стойкой правизны. Результат радует предсказуемостью, как расписание пригородной электрички: чем консервативнее взгляды, тем убедительнее кажется скользкая дорожка. Причём это срабатывало вне зависимости от возраста и пола, и не только в США — даже в Финляндии, где летом солнце не заходит, а зимой не встаёт. Дальше — веселее. Учёные не поленились залезть в дебри Reddit и разобрать почти 60 тысяч комментариев пользователей с разных политических площадок. Выяснилось: в республиканских кругах «скользкие» обороты встречаются чаще, и народ это только одобряет — ведь комментарии с такими доводами набирают больше «плюсов». Что же движет этими людьми? Всё опять упирается в старую как мир схему: консерваторы интуитивны по природе, либералы — зануды-аналитики. Провели и тот ещё трюк: одних участников заставили не спешить и подумать десять секунд, прежде чем высказать мнение. И что вы думаете? Как только правых тормозят, они скользким аргументам сразу верят меньше, и разрыв с либералами почти исчезает. Но если из аргумента выкинуть промежуточные шаги — мол, от А сразу к апокалипсису — даже консерваторы начинают сомневаться. Им, оказывается, важно, чтобы цепочка выглядела более-менее правдоподобно, а не как очередная страшилка из WhatsApp. Есть и практический вывод: те, кто верит в легкость скатывания в пропасть, охотнее поддерживают жёсткие меры — от трёх предупреждений в суде до суровых сроков за, казалось бы, какую-нибудь ерунду. Вот вам и объяснение, почему «правые» такие ярые сторонники строгости в уголовном праве. Андерсон честно предупреждает: не стоит считать скользкую дорожку какой-то абсолютной нелогичностью. Бывает, что причинно-следственная цепь действительно прочна, и тогда такие доводы вполне разумны. Вопрос только — насколько вероятны эти промежуточные шаги? Если вероятность высокая, всё логично. Если низкая — поздравляем, вы только что поймали очередную истерию на ровном месте. Исследование под заголовком “And the Next Thing You Know…” провели Раджен Андерсон, Дэан Схиперс и Бенджамин Рюйш. И теперь вам известно чуть больше о том, почему разговоры о политике часто превращаются в парад страхов, интуиций и пристрастных обобщений. Ну, а если однажды вам снова начнут доказывать, что от забытой чашки до анархии — один шаг, теперь вы хоть знаете, кто тут склонен к переборам.

Почему либералы выбирают татуированных бариста, а консерваторы — всё равно кого: что бренды «говорят» через правила для сотрудников
Если вы всерьёз думаете, что внутренний распорядок в компании — это дело самих сотрудников и начальника, у меня для вас плохие новости. Оказалось, что потребители внимательно следят за тем, насколько крепко начальство держит работников за шкирку, и делают выводы, какие бренды «свои», а какие — не очень. Новое исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Marketing Science, выяснило: люди смотрят на бренд через призму своих политических взглядов. Особенно этим грешат те, кто склоняется к либеральным мыслям: они готовы отправить свои деньги только туда, где бариста улыбается не потому, что ему велено, а потому что душа просит. Консерваторы, как показали учёные, реагируют на суровые корпоративные порядки с философским спокойствием – хоть стой насмерть у кофемашины, хоть танцуй канкан, им всё равно. Раньше правила для сотрудников были чем-то вроде семейных тайн — максимум, выносили на летучки и клали под сукно. Теперь же компании с удовольствием выкладывают свои кодексы поведения на сайте, в соцсетях, а иногда даже в новостях. Кто-то гордо размахивает «гибким рабочим графиком» вместо флага, кто-то хвастается идеальной армией работников с одинаковыми улыбками. Только вот теперь такой шоу-рум пересматривают не только будущие сотрудники, но и клиенты. Судите сами: по данным отраслевого опроса 2024 года, 77% покупателей утверждают, что подход компании к сотрудникам оказывает влияние на их кошелёк. Да-да, прежде чем заказать кофе, люди штудируют соцсети заведения на предмет несчастных подчинённых и со слезой на глазах выбирают бариста внезапно счастливого. Авторы исследования решили докопаться до сути: как публика реагирует на железную дисциплину и вседозволенность у работников? А главное — есть ли здесь место политическим пристрастиям? Они провели сразу семь экспериментов (в общей сложности поучаствовали 2800 простых американцев), где участникам показывали то курьёзные уставы несуществующих кофеен, то фоторепортажи про официантов в военную выправку, то сценарии строгих и мягких правил в разных отраслях. В первом опыте 200 человек читали выдуманные правила: одним доставались сухие пункты «не выражать эмоции и говорить строго по сценарию», другим — вариация на тему «разрешаем сиять индивидуальностью». Как водится, либералы мигом отвернулись от фабрик по производству управляемых роботов, а вот консерваторы плечом не повели — дескать, работай как хочешь, лишь бы кофе не пролил. Дальше пошли фототесты: гостей кофеен знакомили с точёными бариста в накрахмаленных униформе и гарнитуре (намёк на строгий контроль) или с расслабленными парнями в рваных джинсах (гибкость правит бал). И снова либералы оценили атмосферу свободы, а консерваторы не разглядели разницы. В другом эксперименте испытуемым нужно было выбрать между отелями с жёсткими и вольными правилами, а учёные ещё и индексировали склонность к принятию иерархии (так называемая Social Dominance Orientation, сокращённо SDO). Оказалось, те, кто терпеть не может вертикаль власти (либералы), шестым чувством вычисляют диктатуру во фразе «бритьё обязательно» и сразу записывают отель в чёрный список. А тех, кто спокойно относится к начальству да и к порядку вообще (консерваторы), не проймёшь ни армейским жаргоном, ни свободолюбивыми лозунгами. Учёные, к слову, удивились: ожидалось, что консерваторы вспомнят про личную свободу и возмутятся тоталитарной дрессуре, но, увы, под этой маской скрывался лишь олимпийский пофигизм. А что если закрутить гайки всем, даже начальству? Тут интересный момент: если строжайшие правила распространяются и на топ-менеджеров — либералы вдруг готовы это стерпеть (у всех своя порция наказания, как говорится). В соседнем эксперименте рассматривали фитнесы: если крупная сеть заставляет тренеров отполировать кроссовки до зеркального блеска — либералы со свистом уходят к соседям; но если такая же диктатура случается в маленьком зале, народ с прогрессивным мышлением проявляет неожиданную лояльность. Консерваторы же, наоборот, любят твёрдую руку особенно у гигантов рынка. Но наступает момент истины. Если участникам объяснить, что вся эта канцелярско-форменная строгость — из-за риска плохого сервиса (например, «в нашем городе отели ненадёжны!»), и слева, и справа вдруг наступает мир. Всем не до идеологий — тут бы заселиться, чтобы полотенца были чистые! На практике это значит следующее: компании, которые хотят понравиться публике с левацкими взглядами, должны с радостью напоминать, сколько свободы у сотрудников. Тем же, кто подумывает о диктатуре, стоит хотя бы не делать разницы между баристой и начальником отдела — так будет меньше ворчания даже среди любителей свободы. Эти эффекты, кстати, замечены и в разных сферах бизнеса, и при разных сценариях, и даже среди любителей кофейни, и среди фанатов спортзалов. Но не спешите радоваться: исследование проводилось на американцах, у которых свои тараканы и пряники. Как на все эти порядки реагируют жители, скажем, Мурманска или Владивостока, науке пока неведомо. Ну и гипотетичность заданий (придуманные кафе, сценарии, тесты) всё-таки оставляет простор для фантазии: в реальности всё ещё интереснее. Планы у авторов амбициозные — проверить, не начинают ли люди переносить свои страсти на общение с роботами. Даже бездушный чат-бот может стать для клиента объектом классовой борьбы! Так что, если вы думали, что устав для персонала никто не прочтёт — спешу разочаровать. Каждый пункт — как Instagram-пост, способный сделать вас кумиром или врагом потребителей. Наши дни — вестерн, где состязаются не только ковбои, но и методички для работников.

Доверие к СМИ: как партийный состав редакции влияет на веру в новости?
Все мы знаем, что доверие к новостям сегодня падает быстрее, чем уровень воды в дачном колодце летом. Авторы недавнего исследования из фильма с длинным названием (а если честно — из журнала Communication Research) решили разобраться, насколько сильно партийный состав редакции влияет на то, поверит ли публика очередному тревожному заголовку. Замысел был прост, как два рубля: что будет, если честно сказать людям, какие политические взгляды преобладают у журналистов в той или иной редакции? Возможно, эта прозрачность вернёт хотя бы каплю доверия и заставит пользователя не пролистывать новость со словами «опять кто-то врёт». Учёные скрутили три онлайн-эксперимента. Сначала участникам показывали краткое описание некоего новостного проекта, а потом — график с раскладом политических симпатий коллектива. Далее — классика социологических жанров: люди отвечали, насколько они доверяют этим новостям, будут ли возвращаться за обновлениями и захотят ли вообще избегать такую новостную лавку. В первом эксперименте использовали реальный проект The National Desk, но для чистоты внушили людям разные картины происходящего: одних оставили в неведении о политике сотрудников (контрольная группа), другим пообещали идеальный баланс между либералами и консерваторами, третьим и четвёртым рассказали о царстве либералов или, наоборот, консерваторов. Что вышло? Шкала доверия взлетала, если редакция казалась либо нейтральной, либо о её политике вообще ничего не рассказывали. Баланс сил явно подкупал аудиторию — народ сразу охотнее готов был читать новости, а не игнорировать их. Разницы между идеальной гармонией и полной загадкой практически не было — видимо, незнание иногда греет душу. Однако тут вступили в дело американские политические страсти. И демократы, и республиканцы начинали презирать те редакции, в которых доминировали противники. У либералов тряслись колени от ужаса при виде консерваторского большинства, а республиканцы тут же сбегали от либерального большинства в кадре. Зато любимчиков среди «своих» не появлялось: ни демократы не бросались обнимать либеральных собратьев, ни республиканцы не бросались на шею своим идеологическим братьям. Второй эксперимент усложнил правила игры: теперь политическое разнообразие в редакции считали по партийной принадлежности — кто демократ, кто республиканец, а кто вечный Независимый (Independents). Появилась даже версия, где большинство журналистов вне партий. И снова: максимальное доверие — там, где в редакции сбалансированная каша из всех взглядов либо журналисты вне политических рамок. А вот явные партийные перекосы — автоматическое недоверие, как только видишь их на табло. Третий заход был сделан для особо подозрительных: вдруг всё дело лишь в звучном названии? На этот раз придумали фейковую контору Independent News Network, заранее проверили, что название ничего ни у кого не вызывает, и повторили эксперимент. И в третий раз народ голосовал доверием за нейтральные коллективы, а от однопартийных компаний шарахался как от вируса. Выводы не заставили себя ждать: любовь к балансу — вот та самая кнопка доверия. Стоит редакции превратиться в тусовку единомышленников — и читатели испаряются. Причем доверие как лакмусовая бумажка: если его нет, никакие уговоры и искромётные заголовки не заставят читать дальше. Без доверия захочется только нажать «скрыть» и забыть навсегда. Авторы статьи честно признаются: всё это — лабораторный театр, реальность сложнее. Обычно редакции не рапортуют вслух, кого у них больше — демократов или республиканцев, так что в жизни эффект может быть чуть иным. Да и конкретные новости могут влиять на реакцию публики куда сильнее, чем сухой состав редакционной коллегии. Что дальше? Ученые не унывают: следующий их шаг — проверить гипотезу на узнаваемых брендах и посмотреть, как повлияет знание о политике редакции на доверие к реальным новостям. А пока — если вдруг вам хотелось узнать, в чём секрет любви публики к новостям, держитесь нейтральнее. Или оставьте всё в секрете — народу только спокойнее станет. Исследование называлось «In Diversity We Trust? Examining the Effect of Political Newsroom Diversity on Media Trust, Use, and Avoidance». Написано троицей: Eliana DuBosar, Jay D. Hmielowski и Muhammad Ehab Rasul.

«Молодежь, автоматы и большой страх: почему боязнь массовых расстрелов в США толкает юных республиканцев и мужчин в объятия оружейного лобби»
У современных американских молодых людей под лозунгом «живи быстро, умри на школьной вечеринке» есть своя фобия — массовые расстрелы. Но думать, что теперь они все дружно устремятся в объятия строгих законов об оружии, было бы чересчур наивно. Новое исследование, опубликованное в журнале Social Science Quarterly, выяснило: да, большинство молодых американцев боятся попасть под раздачу, но этот страх странным образом разделяет их, а не объединяет. «Сегодняшняя молодежь привыкла бояться массового насилия, — удивлённо пожимает плечами профессор социологии Jillian Turanovic. — Но общий страх не приводит к единству взглядов на оружейную политику. Скорее, наоборот — выдергивает все внутренние противоречия наружу». Исследователи задались простым, как три копейки, вопросом: если люди 18-29 лет — так называемое «поколение бойни», выросшее под аккомпанемент новостей о терактах в школах и торговых центрах — так боятся оружия, не соберутся ли они вместе, чтобы подружиться с жесткими оружейными законами? Похоже, не всё так просто. Учёные решили раскопать этот вопрос до корней и организовали масштабный опрос 1 674 молодых людей из всех штатов США, профилируя их мнение о доступе к оружию и личном отношении к возможности оказаться жертвой массовой стрельбы. Результаты опроса скорее напоминают нам не сочный американский пирог, а пересоленное рагу из парадоксов. С одной стороны, более 60% молодёжи признаёт: они опасаются, что массовый расстрел может коснуться их лично. Казалось бы — хватит бояться, пора ужесточать контроль! А вот и нет. Как только берём лупу и смотрим на республиканцев, картинка приходит в движение: чем больше юный консерватор боится стать очередной мишенью, тем крепче он вцепляется в свои оружейные права. Парню с опаской за спиной больше по душе концепция «добрый парень с ружьём», чем идея контрольных мер. И чем страшнее на душе, тем больше у него патронов в шкафу. Не отстает и мужская часть молодёжи. Как оказалось, у парней и девушек до поры до времени взгляды на оружие практически совпадают, но стоит напугать их посильнее — и юные мужчины превращаются в рыцарей, не снимающих кольчугу. По законам жанра, «быть мужчиной» — значит уметь защитить, поэтому страх массового насилия подталкивает парней к оружейной стойке, а никак не к голосованию за отъём пушек. Вдобавок выяснилось: даже география играет свою странную музыку. Обычно чем сильнее страх, тем жестче мнения о необходимости оружейных запретов — но на северо-востоке США всё наоборот. Там, где вроде бы уже самые суровые законы, молодёжь с кипучей тревожностью внезапно начинает в них сомневаться. Балансирует на грани абсурда: законы есть, а резонансные стрельбы всё равно случаются. Может, не в законах дело? По поводу других различий — расовых, этнических, образовательных — никаких ярких узоров не обнаружено. Выходит, идеология и гендер — главные дирижёры этого оркестра страхов и убеждений. Авторы исследования честно признают: их работа — лишь скромный фотоальбом тенденций. Пока что это только срез, который не объясняет, что именно рождает те или иные взгляды — страх ли формирует позицию, или взгляды окрашивают кошмары. К тому же, выборка хоть и разношерстная, но не исчерпывающая — американская молодёжь неоднородна, что бы про это ни писали. Впереди ещё масса вопросов. Как меняются взгляды после трагедий на родине? Такие детали, как «красные флажки» — законы, по которым у подозрительных граждан могут изымать огнестрел? Всё это оставляют на будущее. Финальный аккорд: если кто верил, что у «поколения бойни» один ответ на проблему — строгий запрет, то теперь время признать: коллективный страх не сваривает их в монолит, а раскладывает по разные стороны баррикад. Для политиков здесь важный урок: менять оружейную политику в Америке — всё равно что пытаться заплести волосы на ёжике.