Исследования по тегу #мозг

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.
В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.
Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.
Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.
Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.
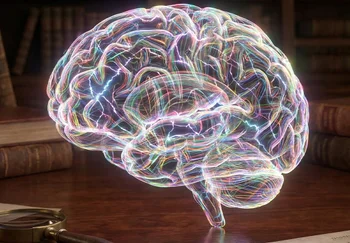
Когда Творчество Ломает Провода: Как Хаос в Мозгу Дарит "Эврику"
Все началось с очередного парада человеческой нелогичности и, как водится, с новой научной попытки объяснить, почему некоторые из нас вдруг выстреливают гениальной идеей, а остальные продолжают копаться в бумажках шаг за шагом. Группа нейробиологов решила разобраться: отчего некоторые люди регулярно выдают "Ого, придумал!", а другие даже для выбора чая в магазине составляют пошаговую инструкцию? Исследователи добрались до самой мякоти – белого вещества мозга. Белое вещество – это, чтобы не запутаться, своего рода интернет-провода, соединяющие разные районы серого вещества и обеспечивающие мозговой интернет: сигналы, мысли, обмен идеями. В деле приняли участие 38 человек – довольно скромная тусовка, но для исследований с дорогим МРТ – вполне типично. Всем раздали задачки на креативность, где нужно найти общее слово для таких, казалось бы, непохожих, как «краб», «сосна» и «соус» (правильный ответ – «яблоко». Кто бы мог подумать?). Кто решил загадку – честно сообщал, осенило ли его внезапно или результат был плодом нудного логического разбора. Одновременно у испытуемых сканировали мозги с помощью методики Diffusion Tensor Imaging (DTI). Это когда учёные не просто смотрят на мозг со стороны, а меряют, как вода там двигается – по сути, как хорошо ваши мозговые провода справляются с передачей данных. Чем выше показатель, называемый "фракционная анизотропия" (ФА), тем организованнее и плотнее провода; в академической среде принято считать, что это залог успеха. И вот тут начинается самое любопытное. Те, кто чаще ловил озарения, имели менее организованные связи именно в левой части мозга, в тех областях, которые отвечают за язык и смысл слов. Более рыхлые, расслабленные "провода". Выходит, когда ваш мозг чуть менее зажат шаблонами и правилами, появляется возможность отпустить контроль, дать себе расслабиться, и тогда в совершенно неожиданном месте вспыхивает реальный инсайт. А вот для тех, кто всё делает по шагам, никаких особых отличий в структуре мозга не нашли — возможно, тут главную роль играют не стабильные особенности, а мгновенная активность. И, между прочим, подобные парадоксы встречают не только в мозговой лингвистике. Учёные из Нью-Йорка недавно выяснили: когда вы вдруг распознаёте размытое изображение, увидев сначала его нормальную версию, работает примерно тот же эффект — ваш мозг лихорадочно ищет нужный шаблон среди старых воспоминаний. К чему все эти трубопроводы, аналоги интернет-кабелей и мозговые ухищрения? К тому, что сила иногда не в контроле, а в правильном ослаблении хватки. Когда мозг не так занят укладыванием мыслей по полкам, а позволяет себе пустить фантазию погулять, появляется та самая "Эврика". К слову, с этими результатами пока еще нужно быть начеку: 38 участников – не армия, к тому же испытания выявили связь, а не причину. Образование, возраст, опыт — всё это может вмешиваться в картину. Есть риск, что мы ещё увидим битвы академиков за стандартные шаблоны и трещащие по швам догмы. Короче, не спешите прокачивать мозговые провода ради эффективности – иногда хаос гораздо продуктивнее порядка. А если застигнет внезапная гениальная идея, вспомните: возможно, ваш внутренний электрик дал слабинку – и подарил вам озарение.

А если в голове пусто? Учёные изучили, как мозг живёт без внутренней «картинки»
В мире есть люди, которые не просто не видят будущего — они вообще не видят ничего у себя в голове! Нет, это не про очередного начальника из анекдота. Речь о людях с афантазией — это такая редкая штука, когда в голове не возникает ни одного воображаемого образа, хоть тресни. Не так давно в подкасте Speaking of Psychology у Ким Миллс побывал Джоэл Пирсон — нейробиолог, профессор из австралийского Університета Нового Южного Уэльса. Он, между прочим, руководит лабораторией Future Minds Lab — то есть реально занимается будущим умов. Там Пирсон простой вещь объяснил: у людей с афантазией — никакой визуализации, никаких мысленных картинок. Представь: закрываешь глаза, а вместо радуги и пляжей — сплошная радиошумная тьма. Саму афантазию впервые описал ещё Френсис Гальтон в XIX веке, но только в 2015-м ей дали нормальное название. Тут и посыпались откровения: выяснилось, что таких особенных — минимум 4–5% населения. А может, и больше, потому что простые опросы не работают: многие с афантазией думают, что "воображать" — это какая-то метафора для поэтов. Для них открытие, что другие люди прямо в голове кино крутят, — шок посильнее финала сериала. Чтобы доказать, что у одних в голове картинка, а у других только белый шум, учёные начали хитрить с тестами. Есть такой фокус: человеку показывают разным глазам разные картинки. Если обычный человек заранее представит себе, скажем, полоски, глаза и мозг тут же выхватят именно их. А вот у афантазиков — тишина, никакой форумной инсайдерской поддержки мозгу. Экспериментаторы пошли дальше, замеряя размер зрачка. Если мысленно вызвать "солнечное" свечение, у большинства людей зрачок сжимается, будто реально вспыхнул свет. А у афантазии — ничего, будоражить глаз не получается. Кто бы сомневался: в пустоте ярких картинок не бывает! Пирсон рассказал, что у тех, кто умеет визуализировать, зона мозга с оригинальным названием "зрительная кора" больше и чище — там меньше фонового шума. Можно сказать, чтобы мечтать, мозгу нужен идеальный порядок. Хоть тут чистота помогает! Ну, а бонус для афантазиков — это эмоциональная броня. Не получается в голове кино, не получается и ужасаться страшилкам с книжных страниц. Эффект страшной истории в голове минимальный, а флэшбэки, как при посттравматическом синдроме, случаются реже и не так ярко. Вот кому не нужна психотерапия после страшного кино! А теперь вопрос: мог бы ты прожить в тишине собственной головы, где не показывают даже трейлеров?

Тревожные перспективы: когда "улучшалка" для мозга пугает ещё больше
Неожиданные результаты нового исследования о мозговой стимуляции заставили нервно улыбнуться даже самых стойких оптимистов. Казалось бы, шикарная технология — без операций, без таблеток, только электроды на голове, и ты почти Эйнштейн без депрессии и страхов. Но вот незадача: мозг, как капризная кошка, реагирует не по инструкции. В исследовании, опубликованном в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, проверяли: действительно ли электрическая стимуляция лобных зон мозга поможет тем, у кого депрессия с тревожностью. Ожидалось, что слабый ток через кожу лба (это называется транскраниальная стимуляция постоянным током, или tDCS) подтолкнёт «мыслящую часть» мозга – лобную кору – сильнее контролировать паническую сигнализацию миндалины (это своеобразная пожарная сирена в глубинах вашего черепа, ответственная за страхи и тревоги). В теории всё красиво – а на практике? Ученые во главе с Tate Poplin и Maria Ironside из Института мозга Laureate в Оклахоме взяли 101 взрослого, у которых бушевали и депрессия, и тревога. Всем раздали ролевые костюмы для научного шоу: кто-то получал настоящую электростимуляцию лобной коры («пламенный мотор» мысли!), а кто-то — искусную имитацию, безо всякого электричества, но с ощущениями для правдоподобности. Никто ни о чём не догадывался: слепой эксперимент! Всё это происходило под гулким звуком МРТ-сканера: добровольцы лежали в трубе, на их лицах отображались то испуг, то безразличие (на экране показывали страшные и нейтральные лица, а поверх — буквы). Задача: выделить буквы, не отвлекаясь на эмоциональные рожи. Так измеряли «нагрузку на внимание». А затем в дело вступала физиология: испытуемым мерили силу моргания (рефлекс испуга) при резких звуках и угрозе удара током — иногда ожидаемой, иногда внезапной. Что получилось? С одной стороны, радуга и пони: у тех, кому взбадривали лобную кору, реакция и внимание на буквы были острее, мозг работал активнее, особенно в трудных заданиях — будто утром после литра кофе. Сканер показал: фронтальные области и теменная кора прям-таки светились энтузиазмом — нашествие бодрости. С другой — подставили подножку: как только ситуация становилась проще (задание легче), та самая миндалина — эпицентр страха — у этих же людей оживилась пуще прежнего! И уж если их пытались напугать внезапными звуками, они моргнули так, будто увидели коммунальный счет за год вперед: испуг, тревога, а не обещанное спокойствие. И тут вишенка на торте: ученые ожидали, что tDCS утихомирит внутренние тревожные колокольчики, а прибор, наоборот, подлил масла в огонь. Вроде бы мозг стал сообразительней, но жизнь от этого не стала спокойнее. Возможно, стимуляция работает не как транквилизатор, а как «турбо-режим» для всего эмоционального хозяйства — и для задачи, и для страхов. Конечно, спешить с выводами рано. Во-первых, активные эксперименты длились всего один сеанс, а на практике лечат неделями. Во-вторых, кто бы ни сталкивался с МРТ знает: ничего уютного — холодно, тесно, гудит. Для людей с тревогой – почти казнь! Может, стресс от аппарата сам по себе усилил эффект. Плюс, большая часть участников — женщины (впрочем, и депрессия с тревогой у них встречаются чаще), так что к мужчинам прямого переноса делать нельзя. Но вот что интересно: фронтальная стимуляция реально активизировала нужные отделы мозга и ускорила реакции, как хотели ученые. Только вот тревожность и пугливость никто не отменил — разве что добавили. Теперь специалисты гадают: а если совместить стимуляцию с активной психотерапией, например, с упражнениями на преодоление страхов? Может, в этом случае полученный мозговой «разгон» принесёт пользу и научит не только замечать опасность, но и игнорировать её в нужный момент. В итоге, вместо таблеточной магии или чудо-электродов нас ждёт стандартная мораль: чудеса бывают, но чаще мозг выбирает собственный путь, а учёным остаётся только удивляться его изобретательности — и не забывать моргать вовремя.

Медитация под присмотром нейросканера: когда спокойствие — вопрос техники
Новое исследование из журнала Mindfulness — как горячая пирожка на рынке саморазвития: выясняется, что если подкрепить ваши жалкие попытки медитировать высокотехнологичной игрушкой, вроде нейрофидбека (нейронной обратной связи), то и дзен достигнуть проще, и в душе перестанет свистеть сквозняк из тревог. Теперь, если вы о медитации знаете только из мемов, на которых тибетский монах морщится от соседей с дрелью, добро пожаловать в научное руководство для чайников по созданию Будды внутри себя с помощью магнитного резонанса. Оказывается, проблема не в том, что вы не умеете правильно дышать — проблема в том, что никто не показывает вам, что вы на самом деле делаете внутри своей головы. Неаппетитные мысли о работе, бесконечная рефлексия, монолог про ипотеку — всё это творится в области мозга с мелодичным названием «задняя поясная кора». Именно этот «центр самоуничтожения» учёные решили обуздать с помощью высокоточного fMRI (функционального МРТ с мощностью в 7 Тесла — напомним, это не просто железяка из больницы, а почти научно-фантастический агрегат). В эксперименте участвовали 40 новичков. Их мозги проверяли на отсутствие психиатрических и неврологических сюрпризов, после чего делили участников на две группы: одним — настоящее нейромагическое зеркало, другим — суррогат (шоу «чудо-поле», только мозговое). Обе группы клали в гигантскую магнитную трубку, где им предлагали практиковать фокусировку на дыхании, глядя на экран-«термометр», который реагировал на активность их мозга. В экспериментальной группе этот индикатор реагировал на сокращение работы как раз той самой зоны раздумий и тревог, в контрольной — показывал запись чужого мозга. Никто не знал, в какой он команде: все честно верили, что индуцируют себе просветление. Два дня «гипербуддизма», а дальше — неделя медитации на дому с приложением и ежедневными вопросами о самочувствии и состоянии ума. Результаты? Парадоксальные: внешне обе группы считали, что справились с задачей одинаково хорошо, но внутри — у экспериментальной группы началась полноценная зачистка ментального мусора. Их мозг смог налаживать эффективную связь между зонами самоконтроля и зонами «залипания» в себя, то есть именно то, чему опытные медитаторы учатся годами. Бонус: после курса у этих счастливчиков снизились уровни тревоги, грусти и внутренней суеты. Кому не нравится, что твой собственный мозг тебя хвалит, а не ругает? При этом на объективной проверке mindfulness, когда нужно было считать каждый вдох и нажимать на кнопки, результаты стали хуже. Видимо, отдаваясь свободе мысли, люди «разучились» считать и напрягаться. Кто бы мог подумать, что путь к просветлению полон коварных парадоксов? Но — не всё так радужно. Весь этот театр с магнитными сканерами стоит как коллекция Ferrari. Так что, граждане, пока что нейронное бодрствование — это не для всех. Современные гаджеты, которые обещают вам «просветление за 15 минут», по словам авторов, работают как ладно отполированная погремушка — шуму много, толку мало. Исследование короткое, всего неделя наблюдения. А как долго сохраняется этот буддийский эффект, если не напоминать мозгу — большой вопрос. Следующие шаги — больше выборка, подольше практика, а может, и разжиться какой-то бытовой версией нейрофидбек-программы, чтобы можно было медитировать в пробке на МКАД. Список учёных, к слову, достойный: Saampras Ganesan, Nicholas T. Van Dam, Sunjeev K. Kamboj и другие не менее серьёзные спецы. Вывод: если вы думали, что достичь просветления легче, чем пережить понедельник — спешим разочаровать. Но если у вас завалялось под подушкой пара миллионов на персональный МРТ-сканер... Ну, вы поняли.
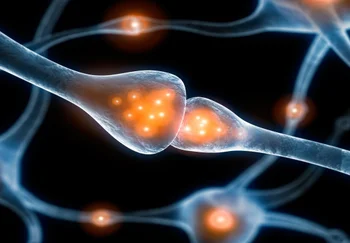
Память не зря дырявая: зачем мозгу мусор вроде амилоидов?
Оказывается, наш мозг использует то, что считалось едва ли не нейроубийственным мусором, чтобы сохранить воспоминания. Свежие исследования говорят: мозг специально формирует амилоидные структуры, чтобы стабилизировать долговременную память. Да-да, те самые амилоиды, про которые все привыкли слышать только в контексте болезни Альцгеймера и прочих маразматических радостей. Однако на этот раз ученые отыскали белок-хулителя, который запускает этот амилоидный парад совсем не для того, чтобы убить ваши нейроны, а чтобы запереть ваше воспоминание в долговременный банковский сейф мозга. Десятилетиями ученые пытались понять, как вообще информация в голове задерживается надолго. Долго думали, что в этом повинна пластика синапсов — тех самых мостиков между нейронами. Считалось, что для долговременного хранения нужна перестройка белков именно там, где сигналы снуют из нейрона в нейрон. Внимание, на сцене белок Orb2, завсегдатай фруктовых мушек Drosophila melanogaster (именно их используют как подопытных в нейробиологии). Orb2 умеет сам себя собирать в амилоидные колонны — жутко устойчивые и длинные, будто кто-то специально устроил на память заливку монолитом. Большинство ученых морщатся: амилоиды — это про беды, так как в контексте старения они разваливают мозг. Но, как оказалось, наш бедный мозг тоже не гнушается этим "строительным хламом" — только делает это под жестким контролем и в нужный момент. И вот вопрос на миллион серых клеток: как мозг вообще регулирует этот цирк — чтобы Orb2 начал собираться только тогда, когда записывается что-то важное, а не когда мушке запах тухлого банана привидится? Ответ искали под руководством Кайла Паттона. Предположили: возможно, определенные белки-шапероны подгоняют этот процесс, помогая кому когда надо превращаться в нужную форму (или собираться в стаю, если по-простому). Для охоты на нужный шаперон ученые взялись за семейство J-доменных белков — это такой белковый патруль, который помогает остальным собраться с мыслями и аминокислотами. В арсенале Drosophila их аж 46 штук. Суже всех они заинтересовались теми, кто тусуется в грибовидных телах — центральном мозговом отделе мушек, отвечающем за обучение и память. Дальше было как в худшем реале: мушек морили голодом, тренировали различать два запаха, один из которых обещал сахар. Одну группу мушек генетически накачали дополнительными шаперонами. Когда в "грибные" нейроны загнали белок с поэтичным именем CG10375, память у мушек прокачалась так, что любой студент бы позавидовал — долгосрок стал неубиваемым. Белок тут же получил новое имя — Funes (в честь литературного персонажа, который не мог ничего забыть; для любителей аргентинских рассказов — это из Борхеса). Можно подумать, что Funes просто подстегивает память, как чашка эспрессо. Но нет, ученые пошли дальше и вырубили этот белок напрочь: оказалось, мушки вроде бы всему научились, но уже через сутки — как корова языком слизала. Без Funes память рассыпается, будто тесто без дрожжей. Эксперименты продолжились: нормальная память обычно привязана к силе стимула (чем слаще сахар, тем крепче память). А у мушек с Funes память оставалась железной даже при скромных порциях сахара. Funes как будто усиливал значимость даже самой средней радости, помогал поймать в памяти то, что другие просто бы проигнорировали — работает своего рода "усилителем вкуса" для опыта. В лаборатории белки Funes и Orb2 свели лицом к лицу: оказалось, Funes буквально пристает к Orb2, когда тот в промежуточном состоянии — не одиночка, но еще не бетонная колонна. Как только Funes в деле — Orb2 резко собирается в стабильные амилоидные нити. Это подтверждали и специальные лабораторные красители, и криоэлектронная микроскопия (спецтехника для рассматривания молекул едва ли не по атомам). Прикол в том, что создаваемые при помощи Funes конструкции идентичны тем, что реально присутствуют в мозгах живых мушек. Суть ещё интересней: все эти трюки работают только если у Funes не мутирован так называемый J-домен — фактически бейджик, по которому шапероны узнают друг друга. Если в этом домене что-то подкрутить, Funes теряет волшебные свойства и память у мушек не улучшается. Всё, конечно, было бы чертовски интересно, если бы не одно "но": пока весь фокус происходит только у Drosophila — плодовых мушек. У людей, конечно, тоже хватает J-доменных белков, кое-что уже связывают с шизофренией и прочими странностями памяти, но точного аналога Funes только предстоит найти. Вот когда найдут — возможно, и объяснят, почему мы помним все глупости с детского утренника, но забываем, где оставили ключи. Это исследование радикально переосмысливает роль амилоидов: оказывается, не все они несут трагедию и деменцию. Иногда, если их приручить, они помогают мозгу хранить воспоминания десятилетиями. Находка Funes — это выключатель, который управляет этим хрупким, но прочным строительством памяти прямо у нас в голове.
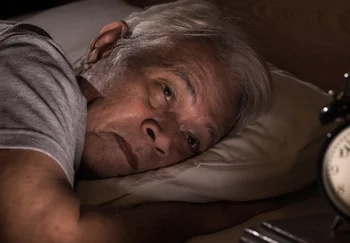
Как не проспать мозг: сонный нефрит старости и почему мужикам опять не повезло
Только ленивый ещё не слышал, что добрую треть жизни человек проводит в кровати. Но новость не про то, что матрас важнее начальника — в этот раз на повестке дня выяснилось: если спишь кое-как, старость гарантированно подкрадетcя раньше, чем хотелось бы, и заберёт с собой ещё пару сознательных лет жизни. В исследовании американских стариков обнаружилось: стойкие участники ночных баталий с подушкой рискуют не только стать клиентами Мадам Клюко раньше срока, но и растерять свои мозговые навыки быстрее, чем те, кто спит как младенец. Учёные, чьим ещё не до конца обесцвеченным волосам мы обязаны этой работой, раскопали архивные данные почти 21 тысячи американцев старше 65 лет. Методика проста: спрашивали граждан, как часто они ворочаются ночью, злобно пялятся в потолок в три утра, или встают с утра отдохнувшими, что нынче почти никто не помнит. Ответы поделили на три сорта: счастливчики, у кого сон — праздник, терпилы с "мелкими неприятностями" и настоящие ветераны ночных мучений. У женщин беды со сном встречались чаще и цветастей, но вот парадокс — вред этого ночного мракобесия для жизни и памяти у дам оказался не так драматичен, как у мужчин. В среднем, суровый сонный кризис отнимал у пенсионера-мужчины примерно 2,4 года земных страданий, а у женщин — около 1,5 лет. И, что особенно пикантно, лёгкие проблемы со сном у некоторых барышень даже совпадали с чуть большей ожидаемой продолжительностью жизни. То есть, пока мужики из-за недосыпа вянут как подсолнухи без солнца, женщины каким-то образом умудряются уговаривать свой организм не сдавать позиции до последнего. Заодно попытались разобраться с теми, чей рассудок уже дал сбой. И тут вышел фокус: дамы с деменцией и хреновым сном жили дольше, чем их счастливые соплеменницы без претензий к ночным часам. Сначала подумали, что это или магия, или проклятие — но потом вспомнили, что за стариков в деменции часто отвечают родственники, а они могут приплетать ко сну всё что угодно. Учёные резонно вспомнили про ночные апноэ и сердечно-сосудистые страдания, которые больше мучают мужчин. Вот и выходит, что парням с разбитым сном остаётся только посочувствовать и пожелать держаться. Не обошлось без нудных уточнений: исследование — наблюдательное, а это значит, что причинно-следственных выводов на кофейной гуще строить пока рановато. К тому же опрашивали только выживших до 65 лет — весь честной народ, покинувший этот свет раньше, остался без внимания. Но даже с этими оговорками посыл ясен: хочешь бодро прожить до ста и самому вспоминать, сколько ты спишь — борись за свой сон, как ковбой за последнюю бочку виски. Самое главное: сон — штука изменчивая и поддающаяся прокачке. С возрастом сложно стать выше или вдруг поменять гены, а вот натренировать вечернюю дисциплину и наконец выключить сериал в два ночи — задача выполнимая. Наука предупреждает: в борьбе с маразмом и старческой тусклостью ковыряться в рутине ночного отдыха куда полезнее, чем искать эликсир молодости у шаманов. Ну, а пока следователи сна вынашивают планы будущих замеров на датчиках и лабораторных кроватях, мы получили честный повод объяснять свою хандру по утрам не только политикой и погодой, но и реальными перспективами загубленного отдыха. Спать полезно, и точка — пожалейте свои нейроны, им ведь ещё воевать за остатки здравого смысла.

Мозг выбирает чипсы за вас: как реклама дергает нас за невидимые ниточки
Вам знакомо это загадочное чувство: только услышал знакомую мелодию из рекламы — уже рука тянется на полку за пачкой чипсов, будто сам не понимаешь почему? Наука теперь готова подбросить вам неутешительный, но очень занятный ответ: мозг, оказывается, готовит действие задолго до того, как вы даже приняли решение. Свежайшее исследование, опубликованное в The Journal of Neuroscience, выяснило: достаточно бросить во внимательный взгляд знакомый объект (примерно как логотип очередного кисломолочного гиганта в магазине), и наш премоторный отдел мозга уже в полной боевой готовности. То есть, до того как вы успели решить, брать вам эти йогурты или нет, ваше тело уже готово их заполучить. И тут наука, как тот строгий знакомый, признательно сообщает: мы всё время принимаем решения не как разумные существа, а как хорошо дрессированные собаки. Ученые называют это страшным словом "Pavlovian-to-instrumental transfer" — когда вы реагируете на знакомый сигнал не раздумывая, будто слышите звонок — идете к миске (или в наш век — к кассе супермаркета). Авторы эксперимента не поленились: загнали 42 студента в лабораторию (22 девушки, 20 парней, примерно по 23 года), надели на них шапочки с электродами (ЭЭГ, если по-научному) — и заставили играть в электронный однорукий бандит. В первой части участникам показывали квадратики разных цветов — три из них сулили разные любимые продукты, четвёртый был пустышкой. Потом их научили: если хочешь деликатес номер один — жми на левую кнопку, если номер два — на правую. Был и третий лакомый кусочек, к которому не прикасались к кнопки — вот такой интеллектуальный "голод". Кульминационный момент: показывают цвет, пока ни одной кнопки нет перед глазами, ждут три секунды, и вот только потом дают право выбора. И тут внимательные учёные выписывают диагноз: когда появлялся цвет, связанный с конкретной вкуснятиной, мозг уже тихо включал моторную подготовку именно той руки, которая отвечала за соответствующую кнопку. Эффект настолько четкий, что ЭЭГ фиксирует уменьшение мощности бета-волн в соответствующем полушарии — настоящий сигнал "приготовиться!" для руки ещё до того, как та увидит кнопку. Иными словами, хватает одного взгляда на знакомое — и ваш моторный отдел уже дрожит в предвкушении. Универсальная реакция? О, ещё какая. Стимулы с общим вознаграждением подгоняли участников действовать быстрее (за что отвечает общая система мотивации), но в мозгу вспыхивали совсем другие частоты — без точной настройки на конкретную руку. И все это, замечает автор исследования Луиджи Альберто Энрико Дегни, происходит молниеносно: спасибо ЭЭГ, теперь мы знаем — моторная система реагирует на стимулы быстрее, чем вы вспомните, каким пальцем жать на замусоленную банковскую кнопку. Конечно, как всегда, есть оговорки. Итальянские ботаники не стали разбираться, что происходит, если испытуемый вдруг решается пойти против системы и жмёт на "неправильную" кнопку. Таких случаев набралось мало — и рассматривать, как мозг борется с привычной дорожкой, пока рано. Ну и да, лаборатория — это не суматошный магазин и не улица, где всплывающие надписи "Акция!" поджидают на каждом углу. Так что, если даже тут мозг превращается в механическую пятёрочку, в реальной жизни эффект ещё сильнее. Будущее за изучением тех, кто умеет сопротивляться этим невидимым поводырям. Каковы особенности мозга у тех, кто не идет на поводу у рекламы? Чем отличаются их нейроны? Пока ответов мало, но одно ясно: моторика наших поступков плотно завязана не на осознанный расчет, а на вшитые до автоматизма реакции. И кто знает — быть может, совсем скоро очередной звоночек "Скидки!" заставит вашу руку выхватить то, о чём вы даже не собирались думать. Ну а наша вера в свободу воли… Пусть полежит рядом с пачкой чипсов — на всякий случай.

Смартфон как плацебо от одиночества: как наши мозги страдают без лайков и уведомлений
Недавнее исследование, проведенное энтузиастами от науки, показало: любители залипать в смартфон — люди не просто тревожные, а буквально страдающие от социальной боли на уровне мозга. Как только их немного обделяют вниманием, в их черепах тут же начинается буря в области, отвечающей за чувства отвержения. Да что там — этот неутолимый голод по общественному признанию «жжет» сильнее, чем пельмени на сковородке без масла. В наше время смартфон — такое же продолжение руки, как раньше была газета у завсегдатаев лавочек. Только если раньше все читали «Комсомолку», чтобы быть в курсе, сегодня большинство тычет в экран не только ради развлечения: чтобы не остаться без порции социальной смазки. Парочка пропущенных сообщений — и человек ощущает себя героем расследования о тайных мучениках одиночества. Психиатры из Гейдельбергского университета решили пощекотать нервные окончания молодых пользователей (конечно, ради науки). Для этого набрали компанию из 41 человека (от 18 до 30 лет, правши, без истории психиатрии — совсем стерильные). Сначала всех поделили на две стаи: одни — фаны безмерного юзания, другие — умеренные граждане, способные отложить телефон хотя бы на время зубной чистки. Дальше всех отправили в МРТ — смотреть на их мозги в момент высшей драмы. Тут в дело вступает старая добрая Cyberball — виртуальный пинание мячика. Им рассказывали, что играют якобы с реальными людьми. На самом деле — с искусственным интеллектом, чьи фотки убеждают, что где-то там кто-то и правда кидает мяч. Сначала — радость: все играют вместе, мяч летит к нашему участнику регулярно. Потом — облом века: мяч внезапно забывает дорогу обратно, и «друзья» полностью игнорируют героя эксперимента. Мозг тех, кто жить не может без смартфона, тут же выстреливает тревожность в зону средней поясной извилины (это такой мозговой пост караула за болезненными чувствами). Контрольная группа же реагировала как взрослые: активизировались области, отвечающие скорее за внимание, чем за эмоциональные муки. И это вам не просто «сам придумал — сам обиделся». У гиперчувствительных к гаджетам фиксировали более выраженный страх остаться не у дел — тот самый FOMO (fear of missing out, или боязнь, что где-то без тебя происходит что-то интересное и ты это гарантированно проспишь). Связь между мозговой активностью и этим страхом подтвердили и опросники. Интересно, что за всеми этими бурями стояли не только эмоции, но и вполне себе банальные нейромедиаторы: дофамин и серотонин были вовлечены в процесс у всех подопытных. Особенно же веселит то, что мозг сверхактивных пользователей смартфонов воспринимает кибер-игнорирование почти как настоящую зубную боль. Но не все так трагично. Проблема пока что в масштабе: участников немного, а результаты — это всего лишь моментальный снимок. Никто не выяснил, что первично: то ли люди с обостренным страхом изоляции тянутся к смартфону как к спасательному кругу, то ли жертвы постоянных уведомлений в какой-то момент становятся сверхчувствительны к боли социального отвержения. Тем не менее, очевидно одно: эпоха смартфонов — эпоха, где обычный страх быть ненужным, который раньше лечили стаканом на кухне, теперь усугубился проклятыми push-уведомлениями. А на что вы готовы ради пары виртуальных "ку"?

Фрукты против фастфуда: как мыши спаслись от слабоумия с помощью овощей
Новая предклиническая работа бьет тревогу: жрешь, как на американском пикнике, — привыкай забывать, где стояла миска. Оказывается, бесконечная любовь к жирному, сдобренная щедрой порцией насыщенных жиров, не только делает вашу талию шире, но и медленно стирает память — да, даже у тех, у кого хвост ещё не отвалился, то есть у лабораторных мышей. Учёные решили не идти простым путём: вместо классической борьбы «за» или «против» какого-то одного суперфуда на этот раз замешали целый коктейль. Яблоки, бананы, ягоды, виноград, цитрусы, шпинат, морковь, брокколи, томаты — букеты, достойные самой амбициозной бабушки на даче. Сушёную овощно-фруктовую смесь добавляли к западной модели рациона, известной как путь к ожирению и когнитивным разочарованиям. Дозировки, между прочим, переложили на человеческие мерки: хотите, чтобы было по взрослому — ешьте 8–9 порций овощей и фруктов в день. В эксперименте участвовали 6-недельные мыши знаменитой линии C57BL/6 — почти как Голливуд среди лабораторных зверей. Сначала группа мышей сидела на банальной мышиной диете (мало жира, никакого веселья). Остальные наслаждались меню любителя фастфуда и заодно получали ту самую овощную добавку разной крепости: от 0 до 15%. Что же вышло? Да, именно так: чем больше нарезки овощей, тем меньше мыши напоминали позабывших свои жёны ковбоя. Оценивали, кстати, не по поводу воспоминаний о первой любви, а с помощью простого теста: старый предмет и новый предмет. Мыши, как те уставшие офисные работники, что возвращаются к холодильнику, упорно интересовались новым предметом только если не перебрали с жирным. Запутавшиеся от количества фастфуда зверьки теряли интерес — они, похоже, уже ничего не узнавали. Но стоило подсунуть овощей — и смекашка возвращалась! Особенно тотальная память включалась у тех, кому повезло с дозой овощей, сравнимой с ежедневной фруктово-овощной корзиной. Любопытно, что ожирение у мышей с овощами не проходило полностью — лишь на самой высокой порции добавки зверькам удалось немного сбросить темп набора веса. Именно здесь натуралисты начали ковыряться в печени (поискал бы кто-нибудь такой энтузиазм у диетологов от офисных перекусов): искали в ней маркёр липидного пероксида (малоновый диальдегид — сокращенно МДА), который свидетельствует о стрессе из-за переедания жирного. Не удивляйтесь: у толстяков-McDonalds на рационе без овощей МДА было хоть отбавляй, а вот добавка огурчиков и брокколи снижала его уровень, будто родная зеленая бабушка махнула своими антивозрастными крыльями. Авторы — Weimin Guo с коллегами из USDA Human Nutrition Research Center on Aging при Tufts University (и подружка Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine, да-да, такие серьёзные ребята) — не забыли про ограничения: эксперимент краткосрочный, мышей немного, тест — всего один. Могли бы и мозги разрезать (что всегда захватывает публику), но в этот раз ковырялись только в печени — извини, когнитивная наука. Зато гипотеза понятна: антиоксиданты из овощей и фруктов воюют с переизбытком свободных радикалов и защищают мозг от «технических неполадок». Так что, если мечтаете забыть кредитку в холодильнике не чаще мышей — не жалейте себе фруктов и овощей. Как показал эксперимент, редиска — силён не только в борще! В будущем учёные предлагают устроить эксперимент по полной: больше разных тестов, не только память — но и другие способности, разборки с частями мозга типа гиппокампа, и конечно, дождаться, когда эту кашу дадут людям. А пока наслаждаемся выводом: фрукты и овощи — старый добрый рецепт не только против живота, но и против забвения.

Интеллект на часах: Почему разные части мозга тикают по-своему и как это связано с умом
Новая научная сенсация прямо из лабораторий для тех, кто уверен, что в его голове не просто пустое эхо! Оказывается, каждая часть нашего мозга работает в своем личном, строго засекреченном ритме, и этот внутренний хронометр может рассказать о нас намного больше, чем мы привыкли думать. Целая команда нейроучёных, вооружившись томографами и матрицами плотнее, чем расписание московской электрички, решила выяснить, как разные области мозга общаются между собой и почему это, возможно, и есть секрет вашей сообразительности. Для начала разберёмся с пафосным словечком «коннектом». Это не новомодная соцсеть для гениев, а карта всех связей между миллиардами наших нейронов, опутанными белыми волокнами мозга — примерно, как карта метрополитена для химически зависимых на информации. Мозг — он, в отличие от офисного планктона, не любит вставать на работу одинаково везде. Одни зоны веселятся в темпе «ускоренного интернета»: те самые, что отвечают за моментальный анализ картинки и звука. Другие предпочитают разгоняться медленно, особенно если речь о «тяжёлых» думских работах и принятии решений. Это и есть пресловутые внутренние нейронные временные масштабы — свой идеальный тайминг у каждой зоны. Инженеры у себя в подвалах давно читают мудрые книжки про Network Control Theory — такую теорию, которая объясняет, как тасовать состояния в сложных системах. Но эти ребята из мира мозга пошли дальше: их устаревшие модели считали, что весь мозг пашет с одинаковой скоростью, как армейский взвод на учениях. Нашли грабли: так почти не бывает! Джеймсон Ким из Корнелла (не улица, а университет, если что) и Линден Паркес из Ратгерса с коллегами разработали новую математическую модель, где каждая область мозга получает собственный таймер. Источник вдохновения — данные о сотнях молодых людей из проекта Human Connectome, сканы мозга и фильмы из разряда «загляни в череп своему соседу». Умный алгоритм учился, как быстро угасает сигнал в разных уголках мозга. Отдельный восторг — это сравнение результатов с так называемой «энергией управления». Чем меньше энергии тратит мозг на переключения режимов, тем эффективнее работает. Новая модель оказалась просто чемпионом среди серых клеток — мозгу понадобилось куда меньше «толчков», чтобы перейти из одного состояния в другое. Можно ли доверять цифрам? Проверили ещё и по генам! Взяли замечательный Атлас мозга (Allen Human Brain Atlas) — и выяснили: все эти разные времена работы областей мозга хорошо коррелируют с плотностью определённых видов тормозных клеток-интернейронов. Поклонники молекулярной кухни оценят: парвальбумин — для скоростных зон анализа, соматостатин — для тех, кто любит подумать подольше. Эксперимент на мышах тоже удался, видимо, у грызунов вечеринка с теми же принципами организации нервных сетей. В общем, эволюция решила не изобретать велосипед, если тот и так крутится отлично. Самое интересное: модель объясняет, почему одни люди гибче в мышлении, а другие до сих пор не осилили даже половину кроссворда. Те, у кого собственные ритмы мозга лучше синхронизированы со структурой связей, легче перескакивают между разными состояниями и задачами. И на тестах по пространственному мышлению и логике они тоже дают фору соседу. Не всё, конечно, так радужно. Аппараты МРТ — штука неторопливая, сигналы мозга бегают быстрее температуры в июне, а карта связей — черно-белая работа художника, без направления стрелки. Но даже несмотря на эти ограничения, похожие результаты получились у мышей с их микроскопами, где направление волокон можно проследить. Что дальше? Наверняка разбираться, как эти часы внутри нас сбиваются с курсом при шизофрении или аутизме, и можно ли по этой модели поймать болезнь на ранней стадии. А может, однажды придёт момент, когда про вас будут судить по темпу, с которым ваш мозг переключается с задачи на задачу, а не по объёму лайков в ТикТоке. Работу провели Джейсон Ким, Ричард Бетцел, Ахмад Бейх, Амбер Хауэлл, Эми Кучейски, Барт Ларсен, Кайо Сегуин, Си-Хан Чжан, Аврам Холмс и Линден Паркес — вот такие ребята, которым можно доверять свой самый главный таймер в голове.

Психопаты и шизофрения: опасный союз с финским акцентом
Судя по свежим финским данным, если кто-то хладнокровен, как робот, а чувств у него примерно как у рыбьей тушки на морозе, — ему впору насторожиться: риск столкнуться с шизофренией зашкаливает. Исследование на основе больничных архивов Финляндии гласит: люди с сильными психопатическими чертами сталкиваются с шизофренией аж в 9,3 раза чаще тех, кто к психопатам и близко не относится. Даже если не брать самые экстремальные случаи, обладателям умеренных психопатических задатков тоже не позавидуешь — риск у них вырастает более чем в пять раз. Что за эти самые психопатические черты? Это ведь не только голливудские злодеи с демонической ухмылкой. В реальной жизни всё проще и без спецэффектов: человек без сочувствия, эмоций в нем кот наплакал, и если он кого-то ограбит, угрызения совести для него — примерно как «форточка в метро»: слышал, но пользоваться не планирует. Фальшивый светский шарм, манипуляции, ложь, и азарт от рискованных поступков — для таких людей практически стандартная комплектация. Авторы исследования — Оулли Ваурио и коллеги — решили проверить, есть ли у таких личностей все шансы получить в «бонус» к своему характеру ещё и диагноз шизофрении. Причин для подозрений было достаточно: нейроимиджинговые исследования давно показывают, что у шизофреников и у «продвинутых психопатов» в мозгах что-то подозрительно схоже по устройству. И предыдущие работы намекали на связь между определёнными чертами психопатии и психическими расстройствами типа шизофрении. Для изучения этого вопроса финские ученые копнули глубоко: они взяли данные людей, оказавшихся на судебно-психиатрической экспертизе былых лет, а именно — в Нюванниеми (не спрашивайте, где это, и не вздумайте искать экскурсию). Данные проверяли по общенациональному медицинскому регистру. Исключали самых тяжёлых — тех, кто был признан невменяемым по причине грубой психопатологии или умственной отсталости, то есть людей с шизофренией на момент экспертизы среди участников уже не было. Итоговый «золотой фонд» насчитывал 341 человека (в основном мужчин, средний возраст — чуть за тридцать). Чтобы распределить испытуемых по степени психопатичности, использовали международную шкалу PCL-R. Всем раздали по очкам — не на нос, а по баллам за бесчувствие, манипулятивность и прочие малоприятные качества. Затем разделили на три группы: "ледяные психопаты", "слегка прохладные" и обычные люди. Дальше всё стало очевидно даже без кристального шара. Среди слабо выраженных психопатов риск шизофрении был минимален. У сдержанно-жестких он вырастал в 5,3 раза, а у суровых «ледяных волков» — в 9,3 раза по сравнению с самой «теплой» группой. Если же применить строгие клинические критерии, то вероятность попасть в категорию шизофреников для классических психопатов была выше в 2,37 раза. Забегая вперёд: каждый пятый выраженный психопат этого злополучного диагноза со временем «удостоился». Вывод же финских исследователей прост: если у человека результат по PCL-R иронично зашкаливает, то и шанс получить купон на шизофрению у него возрастает ощутимо. Правда, стоит помнить одну деталь: вся выборка — это не просто случайные граждане, а люди, которых суд зачем-то отправлял к психиатрам на особую проверку. Для широкой публики такие цифры могут и не работать — для этого нужны другие исследования. Теперь за авторство отвечают господа Оулли Ваурио, Яри Тийхонен, Маркку Ляхтеэнвуо и Йоханнес Лислехто — финны, которым удалось найти связь между ледяным сердцем и сломленным разумом в заснеженной стране контрастов.

Скука мозга побеждена: как выжать из себя умственную работоспособность вопреки усталости?
Вы когда-нибудь ловили себя на том, что после долгой умственной работы мозг ощущает себя как обезвоженный фрукт? Вроде бы только что были полны мыслей, а теперь – рассредоточенность, заторможенность и ощущение, словно коты скребут по извилинам. Уже больше века психологи пытаются понять: умственная усталость – это такая же штука, как физическая, или у мозга свои тараканы? Одни ученые до сих пор уверены, что мозг, как и мышцы, просто расходует запас энергии – вроде глюкозы, и когда он на нуле, разум «садится на корточки». Другие считают, что причина в психологии: мозг мечется, потому что ему стало скучно, и труд перестал приносить хоть какую-то радость. Мол, упущенные приятные занятия тянутся за нами, как собаки на прогулке, и мешают сосредоточиться. В общем, загадки мозга не давали покоя и авторам свежего исследования. Они решили выяснить: можно ли обдурить свою же усталость целеполаганием? Может, если поставить перед мозгом честный вызов, он включит режим сверхурочной работы? Для начала они вспомнили, как всё началось. Во времена Второй мировой психологи ломали голову, почему часовые, которые смотрели на радары, теряли концентрацию быстрее, чем мы чаек на корпоративе. Норман Макворт тогда придумал знаменитый «тест с часами»: надо было палить взглядом на циферблат, где стрелка иногда подскакивала на два деления за раз. Фокус в том, чтобы вовремя отследить эти редкие скачки. Через полчаса испытуемые уже плавали в невнимательности и только лениво отмечали скачки – так человечество познакомилось с «бдительностью» и признало её крайне лимитированной способностью. Дальше – больше. Десятки лет исследований подтвердили: мозгу не так-то просто держать себя в тонусе, даже если дело на пару минут. Люди жалуются на стресс и усталость после коротких тестов. В 2021 году кому-то даже удалось зафиксировать снижение кровотока в мозгу во время такой «бодрствующей дремы». Но все ли задачи действуют на мозг, как охрана на склад – скука и увядание? Авторы статьи решили провести три эксперимента. Их жертвы – студенты Университета Орегона. Сначала 108 человек пялились на экран, где раз в несколько секунд в ячейках мигала буква X. Нужно было как можно быстрее указать, где именно X возник. После каждого клика им сразу сообщали, насколько они были точны и шустры: «Верно! Время реакции – 400 миллисекунд». Но главное – половине дали задание держать реакцию быстрее 400 миллисекунд, другой половине не ставили никаких целей. Периодически спрашивали, чем занят мозг: «в работе», «отвлекаюсь», «гуляю мыслями». Результат получился… неоднозначный. Те, у кого была цель, меньше косячили с медленными ответами, но абсолютных рекордов по скорости не показали. И по частоте «разгула мыслей» особой разницы между группами не возникло. Во втором эксперименте авторы решили закрутить гайки. Золотые медали идут тем, кого не победила жажда челленджей: так, цели становились все жестче – сначала реакция за 450 миллисекунд, потом за 400, а напоследок – за И тут случилось чудо: те, кому подкидывали всё более трудные задачи, стали реагировать быстрее – аж на 45 миллисекунд в среднем против первой группы. Их скорость почти не падала, а мысли гуляли в разы реже – будто мозг одел офисный костюм и отказался уходить в декрет. Третий опыт подтвердил результат второго (только уже не онлайн, а вживую): чем мощнее цель, тем бодрее мозг. И плевать, что задачка усложняется: пуль идти на рекорд только возрастал. Вывод прост: усталость мозга – это не только вопрос сахарка в крови, но и вопрос: интересно ли тому, кто сидит за штурвалом. Когда цели жесткие, но ясные, усталость отступает. И не надо мучить себя марафонами по «расслаблению» – лучше поставь себе конкретную амбициозную цель и посоревнуйся с самим собой. А если уж совсем выжался, сделай короткий перерыв, даже пара минут поможет вернуть работоспособность. Кажется, природа подкидывает мозгу вечный спор: быть или не быть усталым? Но кто знал, что главный лайфхак против мозговой скуки – это не очередная чашка кофе, а простая и дерзкая цель.