Исследования по тегу #подростки

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.
В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.
Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.
Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.
Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Подростки и соцсети: Почему уходить в офлайн — не всегда признак успеха
Сколько раз мы слышали мудрый совет: «Меньше сидишь в соцсетях — лучше жизнь!»? Оказывается, это не просто наивно, но и весьма однобоко. Если подросток вдруг перестал листать ленту TikTok или не лайкает собаку одноклассника в Instagram, вовсе не факт, что он преуспел в построении реальных дружб. Новое исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior, срывает покровы иллюзий: социальные сети не спасают от одиночества, а только дополняют — или усугубляют — тот социальный капитал, что уже накоплен в реальной жизни. Психологи уже устали спорить: делают ли Instagram и Snapchat детей счастливыми и общительными или, наоборот, загоняют их в угол с телефоном вместо настоящей жизни? Одни верят, что онлайн-общение учит дружить, другие клянутся, что из-за соцсетей подростки забыли человеческую речь и смотрят на реальный мир сквозь экран. Но кто вообще решал измерять сложную человеческую жизнь по количеству минут перед экраном? Большинство исследований — это как раз такой неверный подход: считают среднее время, а на нюансы наплевать. На самом деле жизнь подростка в сети — это не просто «зашёл/вышел». Это и пролистывание ленты, и выкладывание фото, и вспышка личной откровенности в чате, и назойливые попытки быть в центре внимания. И вот на сцену выходит Федерика Анджели́ни и компания мучеников науки из университета Падуи (Италия). В их исследовании приняли участие более тысячи нидерландских учеников от 10 до 15 лет. Три года подряд им задавали вопросы: как часто они читают чужие посты, делятся своими мыслями, лайкают друзей и делятся самыми потаёнными переживаниями? Плюс выясняли, что ими движет: страх остаться за бортом или желание стать звездой. Когда данные наконец обработали, получилась вовсе не унылая каша из средних цифр, а четыре ярко выраженных типа подростковых пользователей: "Умеренные всеядные" (самая народная категория — 54%) — те, кто делают в сети понемногу всего: и ленту листают, и фотку зальют, и друзьям пару раз напишут. У этих ребят дружба крепка как швейцарский сыр — и в сети, и на земле. Соцсети им нужны — не чтобы искать новых друзей, а чтобы не забыть старых. "Молчаливые наблюдатели" (30%) — почти не появляются онлайн, контент не постят, задают себе единственный вопрос: «Зачем мне всё это?». И каково же разочарование: у этой группы и в жизни дружба особой крепостью не отличалась. Меньше «лайков» в реале — меньше желания зависать в сети. "Откровенные страдальцы" (8%) — любят излить душу интернету, постят эмоциональные откровения, скрываются за чатами от живых диалогов. У них чаще встречается тревожность и депрессия. Психологи решили: раз в реале трудно выговориться — проще открыться кнопкам и пикселям. Но, как ни странно, именно эта откровенность помогает им сохранять приличное качество дружбы. "Звёзды сцены" (7%) — одержимы идеей самопрезентации, предпочитают постить про себя, но чужими постами особо не интересуются. Их мотив — статус, а не обмен мнениями. Со временем их круг общения только сужается: дружбы уходят в минус, ведь вместо «давай дружить» — вечное "смотрите, какой я!». В сухом остатке — соцсети как увеличительное стекло: если у подростка есть друзья и вне интернета, то онлайн только помогает не забывать друг друга. А если в реале пусто, то никакой Snapchat не соберёт дружбу из воздуха. Кстати, если твой ребёнок подсел на постинг ради лайков — тут стоит напрячься. Можно сколько угодно запрещать гаджеты, но подростковые мотивы сильнее часов перед экраном. Не стоит забывать: исследование строилось на анкетах (а кто честно вспоминает свои лайки за неделю?) и проходило в Нидерландах — у нас во дворе подростки могут вести себя иначе. Учёные не уточняли, с кем подростки дружат (друзья из жизни или интернет-знакомые), но большинство всё-таки общались с теми, кого видели раньше вживую. Ну а вообще, чтобы понять, что подростки реально делают в TikTok, не помешало бы внедрить режим тотального наблюдения — только кто на это согласится? Итог: соцсети не лечат одиночество, а подчёркивают старые схемы. Родителям и учителям самое время перестать бороться не с экранами, а с реальными причинами подростковой изоляции — и перестроить советы с «Меньше сиди онлайн!» на что-то более осмысленное.

Когда застенчивость ― это не про молчание: как социальная тревожность превращается в ярость и хамство
Забыли, что социальная тревожность — это исключительно робость и нервное переминание с ноги на ногу в уголке? Как бы не так! Свежие данные исследования, опубликованного в журнале Personality and Individual Differences, могут перевернуть ваши представления о душевных терзаниях подростков: оказывается, за тревогой прячется не только стеснительность, но и откровенная агрессия, импульсивность и явные замашки нарцисса. Автор работы, Mollie J. Eriksson из лаборатории детских эмоций McMaster University, прямо говорит: вся наша привычка считать тревожных людей исключительно затюканными — формальное недоразумение. Да, клинические справочники по старинке клеймят таких как «социальные фобики», но реальная жизнь гораздо богаче. Исследование собрало почти три сотни подростков (12-17 лет, паритет мальчиков и девочек), усадило их за онлайн-анкеты с вопросами про тревожность, нарциссизм, импульсивность и агрессию (чтобы уж разом всё узнать). Дальше — дело техники: статистика, но не абы какая, а Latent Profile Analysis, что позволяет не коллекционировать скучные связи между цифрами, а ловко выделять характерные типажи, будто сортируешь коллекцию мемов по гримасам. В итоге подростков раскидало по трем лагерям. Самая массовая группа, почти половина, — ребята без особых тревог, без агрессии, заносчивости и прочих бурь в стакане воды. Идеальный материал для буклетов о "здоровой социализации". Вторая группа — примерно треть всех участников. Это классика жанра: высочайшая тревожность, повышенная чувствительность, уязвимость (″vulnerable narcissism″ — это когда самолюбие пышет, но боязливо моргает), и ни следа агрессии. Про таких пишут психологические трактаты о "молчаливом страдальце, затаившемся на последней парте". Наконец, самое интересное — третий лагерь. Четверть испытуемых выдали неожиданную формулу: средняя тревожность плюс дерзкая импульсивность и агрессия, а ещё — рекордные баллы одновременно и по уязвимому, и по грандиозному (grandiose) нарциссизму. Вы думали, что социофоб не может, хлопнув дверью, устроить бурю? Добро пожаловать в будущее психологии подростка — тут застенчивый лоботряс внезапно может оказаться местным заводилой, только вот весёлый он до первой вспышки ярости. Бонус-трек: среди агрессивно настроенных тревожных явно больше мальчиков. Совсем не сюрприз, учитывая, что нашим милым мальчишкам с детства объясняют: «Плакать — стыдно, бей — модно!». Поэтому социальная тревога у них может трансформироваться в выпады типа "я не боюсь, я просто на всех огрызаюсь". Однако предупреждение: эти профили — не диагнозы, а скорее характерные снимки эпохи и момента. Нельзя сказать, что мальчик с агрессивной тревогой обречён на такую роль до пенсии. Исследователи честно признают — нужно отслеживать динамику в долгую, иначе все эти схемы — временные фотографии, не больше. Для педагогов и родителей тут немало поводов для размышлений. Ваш тихий школьник — не всегда будущий поэт-страдалец. Бывает и наоборот: тот самый балагур, задирающий одноклассников, прячет за маской бойца обыкновенную социальную тревогу. Кому-то поможет старая добрая группа поддержки, а кому-то надо придумывать индивидуальные меры — иначе ни медитативные техники, ни волшебные "разговоры по душам" не спасут. В общем, если вы думали, что общество пациентов социальных тревожностей строится на одних тихонях-интровертах, пришло время пересмотреть свои ожидания. Потому что нервный подросток — существо настолько многогранное, что и Шерлок бы запутался в определениях. А психология, как водится, только разводит руками — мол, смотрим, фиксируем и ждём новых открытий.

Психоз не приходит один: что общего у двоечников, одиночек и будущих пациентов психиатрии
В далёком и своенравном мире подростков одно остаётся неизменным: неуклюжие попытки завести друзей и вечные двойки по математике часто предвосхищают не только слёзы родителей, но и тревогу у психиатров. Свежайшее исследование под эжидой международного консорциума наконец-то решило выяснить, что же на самом деле общего между школьными одиночками, неуспешными учениками и теми, кому угрожает психоз. Группа учёных под руководством неунывающего Henry R. Cowan из Michigan State University (Соединённые Штаты) и толпы коллег буквально со всего света (43 площадки на пяти континентах), разобрались: социальные и академические проблемы начинают проявляться у молодых людей за годы до того, как их психика начинает рисовать галлюцинации или подкидывать параноидальные идеи. Чтобы не опираться на догадки уставших педагогов, учёные вооружились опросниками и тестами, оценив более тысячи человек 12-30 лет с повышенным риском развития психоза. Причём выбрали не только родной Североамериканский континент, но и Австралию, Европу, Азию и даже Южную Америку — чтобы уж точно не сослаться на «особенности западного воспитания». В дело пошли тяжёлые артиллерийские инструменты: врачи и сами участники вспоминали былое детство и юность — благодаря шкале Premorbid Adjustment Scale (она помогает понять, как хорошо подросток держался на плаву среди сверстников и в учёбе ещё до первых признаков болезни). Оценивали и поведенческие минусы с помощью Negative Symptom Inventory-Psychosis Risk (там смотрят на анедонию — неспособность получать удовольствие, а также на снижение инициативы, эмоциональную тупость и нежелание общаться). Когнитивные способности тоже не обошли стороной: использовали Penn Computerized Neurocognitive Battery, отдельно считали IQ и возможность освоить хоть что-то на слух. Но, зная коварство подростковой депрессии и повальной тревожности, исследователи не поленились проверить всех и на предмет хандры (по Calgary Depression Scale for Schizophrenia) и на степень общего волнения (Overall Anxiety Severity and Impairment Scale). Только после этого пошли строить хитрые статистические модели, чтобы отсеять лишнее и оставить чистую суть. И вот тут вскрылось: у тех, у кого симптомы «минус» (апатия, перекошенное удовольствие от жизни, оторванность от общества) были выражены особенно ярко, уже до этого весьма страдали и с общением, и с учёбой. Особенно плохо дела шли с желанием участвовать в коллективных играх и обмениваться плоскими шутками на переменке. Школьная неуспешность, как выяснилось, чаще встречалась у тех, кто и интеллектом не блистал, и словесные задачки казались таинством. Любопытно, что так называемые «позитивные» симптомы — ну, например, внезапная подозрительность или полуразличимые шепоты, — не особо были связаны с предыдущими неудачами в школе или социальной жизни. Эта подозрительность и галлюцинации, выходит, появляются чуть ли не сами по себе, а изоляция и проблемы с учёбой — собственная дорожка к психозу, а не просто результат странностей характера. Оказывается, неудачная социализация и плохая школьная успеваемость характерны для детей и подростков по всему миру, независимо от паспортного контроля. Конечно, можно придраться к деталям: родители не всегда помнят, каким гением был их отпрыск десять лет назад, а сама шкала предполагает, что школа обязательна для всех — чего в некоторых странах вообще не наблюдается. Тем не менее, даже если вы привыкли считать современных подростков ленивыми и асоциальными благодаря смартфону и интернету, возможно всё куда серьёзнее. Если у ребёнка испарился интерес к жизни, исчезла тяга к компании сверстников и учёба пошла под откос — это может быть не просто бунт против системы, а звоночек на пути к тяжёлым психическим расстройствам. В следующий раз, когда увидите неопрятного интроверта на задней парте, задумайтесь: быть может, ваш скепсис к его «неудачам» — первый шаг к большой трагедии. Да и воспитатели по всему миру теперь могут объединиться в хроническом недоумении: как вовремя опознать тот тонкий момент, когда подростковая угрюмость перестаёт быть просто модой и становится маркером психиатрической беды? Остаётся надеяться, что будущие исследования дадут ответ — и для школьных двоечников, и для тех, кто застрял в одиночестве.

Цель в жизни как бронежилет от депрессии: подростки, которым есть куда идти, тонут реже
Цель жизни — это, оказывается, не только высокопарный лозунг для выпускных сочинений. Свежие исследования показали: подростки, у которых есть осознанное направление, с гораздо меньшей вероятностью окунутся в пучину депрессии на переходе во взрослую жизнь. Наука говорит: если в юности удалось зацепиться за смысл — можно всерьез снизить риск получить "в придачу" не только грустное настроение, но и полный букет проблем со здоровьем и работой. Исследование опубликовано в солидном Journal of Psychiatric Research. Промежуток между подростковым «вчера» и взрослым «завтра» — это та ещё полоса препятствий. Гормоны скачут, общество требует определиться: то ли рвать жилы ради ЕГЭ, то ли искать свое призвание, а может, сразу успеть обо всём и ничего не напортачить. Неудивительно, что на этом крутом вираже депрессии случаются чаще обычного: физические перестройки соединяются с прессингом социальной индустрии. Последствия очевидны: отношения трещат, продуктивность падает, риск заполучить хронические болячки растет. Психологи давно ломают голову: как молодых людей от этого всего оградить? Тут в поле зрения и попадает тот самый "смысл жизни" — не из большой философии, а вполне себе измеримая штука. Это когда подросток не просто плывет по течению, а уверен, что его лодка куда-то всё-таки причалит. До сих пор основные доказательства собирались на тех, кому под сорок и больше: у таких людей ощущение смысла как будто цементировало психику, ограждая от депрессии. А вот про тинейджеров точных данных было маловато. Один из авторов свежего исследования, профессор медицинского колледжа при государственном университете Флориды (Florida State University College of Medicine) Анжелина Сутин, резюмировала: «Когда спрашиваешь людей, все считают, что чувство цели помогает быть психически стабильнее. Но вот чтобы цифры подтвердили — такого ещё не делали в переходном возрасте». В этот раз ученые подняли данные масштабного лонгитюдного исследования Panel Study of Income Dynamics — это такой марафон по отслеживанию жизни американских семей и отдельных личностей. Из всего этого моря информации отловили ребят 17–19 лет, которые рассказали, насколько чувствуют цель в жизни. Чтобы всё было по-науке, тех, кто уже страдал депрессией, отбросили сразу (не в обиду). Цель — разобраться: влияет ли именно свежеприобретённая осознанность на будущее настроение. Финальная выборка — 2821 человек. За судьбами наблюдали аж десять лет, проверяя настроение каждые два года, пока испытуемые не доросли до Почти половина девушки, неплохая доля — темнокожие и латинские представители, чтобы разнообразие было в порядке вещей. Уровень цели в жизни выясняли просто: спрашивали, как часто в последнее время человек чувствовал, что его день прожит не зря — вариации от «никогда» до «каждый день». Депрессию же диагностировали по шкале психологического стресса Кесслера, где отмечаются шесть симптомов вроде тревоги, безысходности и ощущения, что всё даётся тяжело. И вот результат, достойный вывода в заголовок: каждый дополнительный пункт по «осмыслению жизни» снижал риск депрессии почти на треть. Причём защита работала вне зависимости от пола, цвета кожи или уровня богатства родителей. Даже у тех, кто в детстве уже сталкивался с психическими недугами, найденный смысл как будто включал режим "антидепрессант". Наука тут же обрадовалась универсальности — редкий случай, когда защита работает для всех, несмотря на любые стартовые условия. Но почему внутренний компас так крут? Психологи объясняют это внутренним строительством: цель в жизни выполняет роль строительных лесов, не давая рухнуть в кризисах идентичности. У человека с целью стресс не превращается в Финляндскую войну, а становится топливом для новых попыток. Оказывается, здесь и способность эмоции держать под контролем не последнюю роль играет, и даже здоровье — как физическое, так и социальное (к целеустремлённым чаще тянутся, меньше одиночества, больше удовольствия в жизни). Но — вечная ложка дёгтя! — учёные сразу предупреждают: чудес не бывает, причин у депрессии масса. Смысл в жизни — не кулон против всех бед, эффект есть, но назвать его громадным не получится. Да и наблюдение, конечно, клёво, но чтобы утверждать про прямую зависимость, нужно бы ещё и вмешаться специально — например, попробовать развить цель у подростков и посмотреть, что получится. Так что без исцеления по фотографии, увы. Но вектор для работы понятен: поддержать молодых в поисках смысла — пожалуй, куда умнее, чем надеяться на чудеса фармакологии. А там, глядишь, и взрослую жизнь встретят не с потухшими взглядами, а хотя бы с любопытством.

Синий свет и мозг: кто вы — бодрый взрослый или флегматичный подросток?
Когда лампочка — не просто лампочка, а та еще мозговая кнопка Если вы думали, что светодиоды в вашей квартире и экране смартфона нужны только для того, чтобы не стукнуться мизинцем о табурет, приготовьтесь к шокирующей новости: они делают с вашей корой головного мозга такие штуки, о которых бабушка и не догадывалась. Зануды в белых халатах выяснили: синий свет способен напрямую регулировать, насколько бодр и отзывчив ваш мозг — главное, кто вы по паспорту: молодой взрослый или подросток с вечным желанием вздремнуть до полудня. Свет не только для красоты глаз Свет влияет на наш организм не только через зрение. Вне зависимости от того, наблюдаете вы закат или ловите последний Instagram-зайчик перед сном, ваше настроение, сон и даже уровень бодрости пляшут под дудку особых клеток сетчатки. В них заложен меланопсин — та самая гадость, которой больше всего нравится синий свет. Как только она встрепенулась — ваш мозг готов либо стать гением пятиминутки, либо размазней. "Пружинистость" мозга: что это? Мозг — не комок тухлого картофельного пюре, а суперчуткая система. Ученые называют это "кортикальной возбудимостью" — популярный термин среди тех, кто любит произвести впечатление на семейных ужинах. Эта самая возбудимость определяет, насколько быстры и остры ваши реакции. Но есть ловушка: если гонять мозг голубым светом слишком бодро, вы не станете супермозгом — эффект уходит на нет, как энергетик после третьего стакана. В чем прикол с подростками и взрослыми? Эксперимент был не из серии "посмотрели на лампочку — записали результат". В дело пустили 28 философских крыс (точнее, добровольцев). 13 молодых взрослых и 15 подростков, под бдительным контролем, с пятидневной тренировкой спать по графику. Не было ни депрессий, ни страстных впадок в кофе или ночных тусовок — всё как у святых монахов. Итак, участники по очереди щурились то под оранжевой лампой (это контроль), то под голубой средней мощности, то под голубой, которая бьет по глазам так, что вспомнить Пушкина невозможно. Мозг им "щекотали" транскраниальной магнитной стимуляцией и смотрели — как он дергается в ответ. Одновременно испытуемые играли мышкой в простенькую игрушку: удерживать курсор — дело нехитрое, попробуй только не зевни. Результат для взрослых: не переборщи с вечеринками У молодых взрослых на средней голубой подсветке мозг становился бодрее: всё четко, реакция точная — хоть спасай мир от апокалипсиса. Но вот если света сделать больше — ничего хорошего: кортикальная возбудимость начинала падать. Это не баг, а фича: слишком много бодрячка — и вы снова становитесь Джо Биденом на встрече после ночной смены. А подростки? А с них как с гуся вода Вот тут начинается цирк с лошадями: подростки что под оранжевым, что под голубым светом — мозг как пластилин Папы Карло, никакой разницы. Ни ухудшения, ни улучшения. То ли юношеский максимализм, то ли света им по жизни хватает, но лампы на них работают как попытка зарядить смартфон бананом. Главное: хорошо отдохнувший мозг — залог успеха Тем не менее, независимо от возраста, чем бодрее мозг, тем лучше с работой, даже если работа — это игра в "поймай курсор". Голубой свет помогает только взрослым; подросткам хоть фиолетовый включай. Интересно, что никакие фоновые ритмы мозга — знаменитые альфа и тета волны — не изменились. Менялось только то, как мозг реагирует на стимулирующий "тычок". Вывод, или как не стать кошкой, ловящей солнечный зайчик Так что, дорогие любители спать со светом монитора ноутбука: ваш мозг — не вечный двигатель. Синий свет днем может пробудить, но перебор — и впадаете в режим "вечер пятницы" еще при двух часах дня. И не думайте, что ваши дети-подростки подвержены такому же влиянию: их мозг, похоже, живет по собственным законам. Ну а если хотите разобраться, почему на работе вы Эркюль Пуаро от кофе и лампы, а дома — Зорро после похмелья, держите в голове: не всякий свет одинаково полезен. И помните: иногда выключить лампу полезнее, чем почистить инбокс.

Сам себе наставник: почему мальчикам пора искать собеседника в зеркале
Новый доклад RAND бодро сообщает: у американских мальчиков и юношей наставников хватает — только вот мужских фигур среди этих советчиков не густо. Казалось бы, в самой брутальной стране мира каждый второй должен быть ходячей ролевой моделью, но не тут-то было. Особенно если твои родители даже к средней зарплате не подбирались: тогда и советовать тебе будут в основном женщины — по учебе, по дружбе, по завтрашнему дню. Крайне неудивительно: крышу у парней срывает заметно чаще, чем у девушек. За последние 10 лет число самоубийств среди юношей 15-24 лет выросло в США на 26%. Риск умереть от собственной руки у них в четыре раза выше, чем у одногодок женского пола. Кому как не таким потерянным спутникам по жизни нужен старший мужчина — не «батя мемный», а нормальный, который примером покажет, как не слить свою жизнь в унитаз? Ментор может быть и формальным (через программы) и просто «дядей Пашей, знакомым семьи». Конечно, женская поддержка – тоже не роскошь, но мальчишки, как исследование показывает, больше подпитываются от мужиков, которые научили выживать без лишних соплей. Там, где есть отец — уже счастье: статистика давно доказала, что папки творят чудеса с грамотностью и поведением отпрысков. Иногда для сыновей это даже работает лучше, чем для дочерей. Нет папы? Поиски заменителя — на плечах родственников и других мужчин, которым не наплевать. Вот только сами мужчины, по всей видимости, не горят желанием наставлять мальчишек. Достать добровольца-менторитора — то еще приключение. Зато если мужик все-таки занялся наставничеством, отношения между ним и подопечным, как правило, качественные и долговечные — душа в душу, а не «для галочки». Исследование, кстати, не из пальца высосано. В мае 2025 года опросили 1 083 парней в возрасте от 12 до 21 года с помощью серьезных американских панелей RAND American Life Panel и Ipsos KnowledgePanel. Все демографические выкрутасы учтены, так что с данными спорить сложно. Мальчиков спросили: к кому тянетесь, когда нужно помощь с уроками, конфликтами и вообще с планами на жизнь? Родителей, очевидно, можно было выбирать обоих, а если «кто-то еще» — уточняли, мужчина это или женщина. На выходе картина получилась простая и пугающая. Почти у всех мальчишек есть взрослый советчик. Но почти всегда — женщина. По учебе: у 78% — наставницы, и у 62% — наставники. Почему так? А посмотрите на фото любого школьного педколлектива — редкий мужчина там не в экстазе от своей уникальности. Болячки душевные: за советом по дружбе и отношениям к дамам идут 78%, а к мужчинам — только 57%. В итоге 38% мальчиков вообще не имеют взрослого мужика в качестве наставника по учебе, а 43% — по отношениям. По вопросам будущего расклад чуть радужнее, но четверть всё равно остаётся без мужского участия. В общем, если искать совета у «своих» — часто не у кого. Потом исследователи решили пнуть цифрами по социальной справедливости и разобрали результаты по доходу семьи: меньше $50,000, от $50,000 до $99,000 и свыше $100, Беднягам с мужскими наставниками совсем туго. Лишь 41% мальчиков из небогатых семей могут рассчитывать на наставника-мужчину по учебе (у богатых – 72%). За советом по отношениям — у бедных 45%, у богатых — 67%. С будущим та же песня: 54% versus 84%. Оно и понятно: в семьях, где заправляют женщины — а там доходы в среднем ниже — отцов и мужских фигур сильно дефицит. Стоит признать: результаты опроса — это картинка «по верхам». У парней, конечно, есть взрослые советчики, но не факт, что поддержка одного «дядюшки» равна другой. О глубине взаимоотношений — ни слова, может, один ментор – как доктор прописал, а другой – бесплатное приложение на телефоне. Что дальше? Исследователи сами в растерянности: надо бы понять, помогают ли мужики реально больше, чем женщины; выяснить, почему мужчины так не хотят становиться наставниками; и, пожалуй, разработать стратегию по спасению мальчиков от полного погружения в болото одиночества и школьной тоски. Доклад пишется в духе «давайте делать что-то»: сотрудники RAND Роберт Бозик и Дженни В. Венгер бьют в колокол — ищите мальчикам мужиков-наставников, а то и зеркало скоро дружить откажется.

Депрессия у подростков: почему бег трусцой работает лучше у девочек, чем у мальчиков
Кто бы мог подумать: желание валяться на диване с гаджетом в обнимку и привычка делать вид, что физкультура — это древний ритуал жертвоприношения, могут реально сказываться на настроении подростков. Команда из Монреальского университета решила проверить, влияет ли физическая активность на подростковую депрессию и тревожность и, о чудо, накопала пару интересных закономерностей. Исследование проводилось среди жителей Квебека. Взяли более полутора тысяч ребят, следили за ними как телек за Пугачёвой, с 13 до 17 лет. Каждый год опрашивали: как ваше настроение, сколько депрессии и тревоги, сколько вы дергаете штангу на досуге, как часто смотрите в экран – и сколько при этом удаётся поспать. Что выяснилось? Главная вещь: физическая активность в 15 лет помогает через два года меньше унывать. Особенно этот эффект заметен у девочек. Не то чтобы мальчики совсем не реагируют, но у них статистика такая же шаткая, как вера в Деда Мороза. Ну а обратного эффекта — когда депрессия отбивает желание двигаться — тут не нашли. Получается, что иногда всё-таки не лень вызывает тоску, а наоборот. А вот насчёт тревожности – сплошное разочарование! Бегай, прыгай, обматывайся скакалкой, но уровень тревожности твой энтузиазм игнорирует. Два года спустя — ни холодно, ни жарко. Тревога, видимо, качается по своим законам, не особо обращая внимание на твой фитнес-прогресс. Интрига: неужели спорт помогает через то, что отнимает время у смартфонов или даёт поспать? Тоже нет. Этот гипотетический эффект испарился как летняя гроза: активность защищает напрямую — ни гаджеты, ни подушка тут ни при чём. Но наблюдались и интересные детали. Подростки-девочки, которые больше двигались в 13 лет, в 15 зависали в экранах меньше. Мальчики наоборот: кто в 15 лет не отпускал джойстик, тот в 17 и спал меньше. Надо, правда, признать: исследование не охватило весь зоопарк подростков — все опрошенные из приличных семей, в основном белые, про жизнь российского подростка там не спрашивали. Да и всё по честному слову — сами рассказывали, как у кого депрессия. Ну и коронавирус эта команда не застала, так что TikTok на скорость грусти в этом эксперименте не влиял. В итоге: чтобы не унывать к выпускному, особенно если ты девочка — двигайся. У мальчиков — сложнее, но, возможно, научная магия однажды откроет их секрет. Авторы — Laurianne Fortier и трое малоизвестных, но явно уставших от человеческой природы коллег — предлагают на досуге не только думать о своих проблемах, но иногда пробегаться трусцой. Разумеется, для науки!

В мобильной ловушке: как зависимость от смартфона делает подростков творческими — но не учёными
Недавнее исследование китайских подростков показало занятную картину: зависимость от мобильных телефонов у современных юных умов влияет на их творческие способности так же непредсказуемо, как уровень сахара в газировке влияет на работоспособность школьника. Только вот речь идёт не о сладком, а о чём-то куда более прочно вросшем в повседневную жизнь — смартфонах. Учёные дали определение двум видам креативности: художественной (когда хочется рисовать, писать стихи, сочинять песни или вытворять нечто этакое на театральной сцене) и научной — той самой, которая помогает делать открытия, ставить эксперимент за экспериментом и двигать цивилизацию к светлому (или не очень) будущему. Самое интересное выяснилось, когда исследователи сравнили обе эти стороны творчества с тем, насколько подростки зависимы от своих мобильников. Стартовые позиции просты: чуть больше 2900 учащихся из начальных и средних школ в Китае, возраст — от 10 до 15 лет. Почти поровну мальчиков и девочек, все — этнические ханьцы. Перед каждым — анкета с вопросами про то, зачем и как часто он/она тянется к телефону (например, «Я беру телефон, когда мне одиноко» или «Я пытаюсь ограничивать время в телефоне, но безуспешно»), плюс вопросы про самооценку и склонность считать себя творческой личностью. Вот где зарыта собака: при низкой зависимости от смартфонов связь проста — чем больше подросток погружается в экран, тем хуже у него с креативностью и в искусстве, и в науке. Ожидаемо? Вполне. Но стоит пересечь магическую черту зависимости — и научная креативность перестаёт страдать, а вот художественная, наоборот, взлетает как рейтинг скачивания нового приложения. Как объяснить такой фокус? Видимо, тот самый момент, когда телефон становится продолжением руки, даёт подростку простор для самовыражения в искусстве, даже если идеи для изобретательств в духе Эдисона ловко ускользают. Получается, лишняя зависимость от смартфона при определённых условиях помогает раскрывать себя через музыку, живопись и, возможно, через селфи в образе супергероя. Какая же здесь мораль? Учёные советуют педагогам не воевать с гаджетами лоб в лоб, а работать с самооценкой подростков. Если школьник уверен в себе, даже смартфон с его нескончаемым потоком уведомлений не лишит его тяги к открытиям. А вот тем, кто уже дружит с экраном больше, чем с одноклассниками, может помочь развитие творческой самости — например, через дневники, рефлексию и обсуждение своих успехов и промахов. Но не все так однозначно: сравнения себя с чужими творческими достижениями (особенно через соцсети) способны бить по самооценке как комментатор в онлайн-игре. К тому же, сами исследователи признают: пока сложно с уверенностью сказать, что именно смартфон виноват в падении креативности, а не что-то ещё из бурного подросткового коктейля. Статью, в которой подробно разбирается этот клубок из зависимостей, творчества и самооценки, опубликовал авторский коллектив во главе с Qing Wang в научном журнале Journal of Creative Behavior.
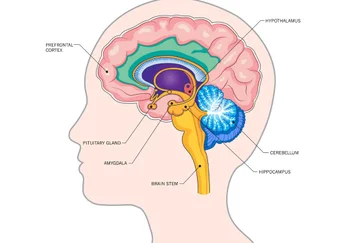
Подростки, которым срочно нужны деньги: кто ими управляет — мозг или кошелек?
Когда кажется, что подростки — это ходячие катастрофы с банковской картой, ученые подбрасывают еще дров в костер сомнений относительно человеческой природы. Недавнее исследование, опубликованное в Human Brain Mapping, попробовало копнуть поглубже в эти мутные воды — выяснить, почему старшие подростки, столкнувшись с большими деньгами, хватают мелочь сегодня, вместо того чтобы ждать крупную сумму потом. Оказывается, вся соль — в странных мозговых связях между левым миндалевидным телом (это такой центр эмоций в мозгу) и сетью когнитивного контроля (набор отделов мозга, которые отвечают за волю и разумные решения). Если между ними связь крепче — подросток, скорее всего, ухватит деньги сейчас, особенно когда речь идет о солидных суммах. Но вот парадокс: у младших подростков и молодых взрослых эта хитрость не работает. Там, видимо, свои тараканы. Для начала разберемся, что за зверь такой — delay discounting, он же «обесценивание отложенного вознаграждения». Например, тебе обещают 10 тысяч рублей сейчас или 15 тысяч через полгода. Если ты предпочитаешь тут же схватить деньги — поздравляем, твоя кривая обесценивания крута, как у Барона Мюнхгаузена. Психологи говорят: чем круче кривая, тем ты более импульсивен — трудно ждать, хочется всё и сразу. Именно этим показателем пользуются ученые, чтобы понять, кому позже грозят прелести зависимостей, авантюр и прочих жизненных катастроф. В исследовании под прицел попали 448 добровольцев 10–21 года, которые участвовали в международном исследовательском проекте Human Connectome Project – Development. Испытуемых поделили на три братства — младшие подростки (10–13 лет), старшие (14–17 лет) и «юные взрослые» (18–21 год). Всем им нужно было сделать школьный выбор мечты: взять меньшую сумму сейчас или подождать приличную кучу денег. Только сумма варьировалась — то 200 долларов, то прямо-таки 40 тысяч. И ждать можно было от месяца до десяти лет. Тут даже взрослый сломается! С помощью фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) ученые смотрели, как меняется связь миндалины с отделами мозга, ответственными за рассудительность. Причем анализ был не статичным: им важно было понять, как эта связь прыгает и меняется во времени — из серии «настроение поменялось – мозг соскочил с катушек». Выяснилось, что абсолютно все, независимо от возраста, предпочитают 200 долларов сейчас, а вот 40 тысяч – уже повод поразмышлять. Но среди младших подростков поразительно много тех, кто хватается за любой шанс получить деньги побыстрее. Это подтверждает старую истину: у подростков жажда вознаграждения зашкаливает, а с возрастом страсти немного поутихают и голова становится холоднее. И тут начинается самая интересная магия: только у старших подростков левая миндалина и сеть контроля показывали особые отношения. Чем прочнее их связь, тем выше шанс, что подросток сорвется на импульсивную покупку, если сумма на кону крупная. Справа в мозгу — никаких подобных трюков, правое миндалевидное тело от этого шоу дистанцируется. У младших подростков и взрослых — тем более. Видимо, именно в старшем подростковом возрасте происходит битва Путина между разумом и эмоциями, причем с бюджетом на кону. Объяснить этот мозговой цирк пробуют через дофамин — тот самый «гормон радости», который буквально заливает подростков еще и в моментальных всплесках. В этот период отделы мозга, отвечающие за самоконтроль, развиваются с опозданием и не всегда справляются с бурными эмоциями. Получается, что старшеклассники — это такие «мозговые перегонщики» на повороте: уже не дети, но и до мудрого спокойствия членов Совета Федерации им еще далеко. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного предупреждения: импульсивность в подростковом возрасте — норма. Не стоит удивляться, если ваше чадо вдруг слило всю заначку на дурацкую видеоигру. Мозг так работает — причем не только у вашего, а вообще у всех. Конечно, работа не без греха: ученые копали только в миндалевидном теле, проигнорировав другие «горячие точки» мозга, например, ядро accumbens (центр удовольствия на мозговой карте). Да и настоящих рисковых поступков на улице никто не исследовал — работы еще непочатый край. Впрочем, какой родитель не мечтает узнать, почему его подросток способен отдать всё за быстрый кайф, а потом жаловаться на жизнь с эпическим трагизмом. Благодаря таким исследованиям становится чуть понятнее, почему молодёжь зачастую вляпывается в зависимость или идёт на крайние меры, чтобы получить свою дозу удовольствия. А там, глядишь, эти знания помогут не только ругать, но и понять.

Кошмары подростков: когда ночь становится опасней дня
Исследование подростков, только что выписанных из психиатрических стационаров — не самый веселый способ провести вечер, но кому-то надо выяснять, почему ночи превращаются в арену для внутренней драмы. Так вот, если вам казалось, что кошмары — это всего лишь последствия ужина на спорных молочных продуктах, держитесь за подлокотники: у научного мира совсем другое мнение. Группа исследователей во главе с некоей Kinjal K. Patel решила проверить, как часто и с какой интенсивностью подростки видят кошмары, и есть ли у этого отношения с мыслями о самоубийстве и членовредительстве (да, существует даже соответствующий термин — SITBs, то есть self-injurious thoughts and behaviors — самоповреждающие мысли и поведения). Результаты опубликованы в Journal of Affective Disorders — название у журнала хоть и угнетающее, но к теме подходит как нельзя лучше. В исследовании участвовали 86 подростков от 12 до 18 лет — свежеотпущенные с краткосрочного психиатрического "курорта" за попытки суицида. Средний возраст — 14 лет, мальчиков с девочками почти поровну. Всем выдали телефон с приложением (или просто вручили смартфон, если аппаратуры под рукой не оказалось), и заставили на протяжении 28 дней внимательно фиксировать: а) кошмары за ночь; б) настроение утром и в течение дня; в) интенсивность мыслей о самоубийстве или членовредительстве. За прилежность участники получали не только эмоциональный опыт, но и 40 долларов на старте, плюс по 25 долларов за каждую неделю, если не забивали на науку. Результаты оказались вполне в стиле черного юмора судьбы: более частые и яркие кошмары шли рука об руку с хронически мрачным настроем (спасибо, негативный аффект — ощущение, будто к тебе прилип злой комментатор из соцсетей). А вот чем хуже чувство на душе — тем ярче и частее идеи о том, чтобы причинить себе вред, будь то из разряда "я хочу исчезнуть" или "пойду, оставлю пару шрамов на память". Интересно, что эти связи обнаружены не в разрезе отдельно взятых дней — вчера тебе снился ужас, и сегодня ты сразу в печали. Нет, дело гораздо тоньше: общий фон личности, её долгосрочные различия — вот кто заправляет балом. Может, сегодня встал с правильной ноги, но если хронически живешь под звездами кошмаров, проще говоря, в душе не май. Авторы подчеркивают: не стоит хвататься за красные флажки — корреляция не равна причинно-следственной связи. Они фиксировали связи между средними значениями по разным людям, а за что конкретно отвечает сегодняшний кошмар — вопрос еще открытый. Зато теперь у ученых есть новый повод с упорством маньяка исследовать, неужели плохие сны действительно заводят подростков в дебри саморазрушения, или это просто общий бедлам внутри головы. И, судя по всему, работы у них еще лет на сто вперед.