Исследования по тегу #нейронаука

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.
В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.
Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.
Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.
Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Вакцина от опоясывающего лишая: новая молодильная яблоня или просто прививка?
Получить вакцину от опоясывающего лишая — привычная рекомендация для людей старшего возраста, чтобы не страдать от болезненной сыпи. Но оказалось, что этот укол способен не только сдерживать высыпания, а копается в нас гораздо глубже, буквально замедляя наши биологические часы. Новое исследование говорит: те, кто сделал прививку, стареют чуть медленнее – по крайней мере, судя по состоянию организмов. Учёные давно знают, что на возраст стоит смотреть не столько по количеству свечей на торте, сколько по состоянию организма. Два человека с одинаковой датой рождения могут отличаться, как свежий пирожок и засохшая булка на завтраке, — это и называется разницей между хронологическим и биологическим возрастом. За эту попытку разобраться, как вакцина влияет на наше внутреннее старение, взялись исследователи Jung Ki Kim и Eileen M. Crimmins из Университета Южной Калифорнии. Предыдущие работы намекали: взрослые вакцины, возможно, сбивают риск получить Альцгеймера и другие радости деменции. Думали-думали и решили проверить, не тормозит ли вакцина от опоясывающего лишая что-то ещё. На первом плане — пресловутый вирус varicella-zoster, он же виновник ветряной оспы. Когда-то детская неприятность, он затаивается в нервных клетках на годы, а потом выстреливает опоясывающим лишаем, если сильно повезёт. Даже если высыпания не случилось, вирус может тихонько вышитывать иммунную систему, вызывая «воспалительное старение» — такое хроническое тление, разрушающее ткани исподтишка. В эксперименте использовали данные масштабного исследования пожилого населения США за 2016 год: почти 4000 респондентов старше 70 лет, не самая молодёжная, но весьма показательна когорта. Измеряли не одну какую-нибудь банальную «молодость», а сразу по семи маркерам: уровню воспаления, состоянию сосудов, отдельным имунным функциям, а заодно и количеством особых переключателей в молекулах ДНК (это тот самый эпигенетический возраст). Результаты оказались поразительно просты: у вакцинированных уровень общего воспаления ниже, в том числе показатель С-реактивного белка — главного «сирены» бедствия в организме. Биомаркеры старения у таких людей выглядели заметно «моложе»: эпигенетические часы и гены сигнализировали о том, что время для этих товарищей идёт медленнее. В общем, организм у привитых был моложе своих паспортных лет. Теперь, казалось бы, вакцина должна и мозг защитить, ведь по статистике меньше деменции у привитых! Проверили кровь на белки, которые всплывают, когда мозговые клетки дохнут — neurofilament light chain и фосфорилированный тау (вот они-то и связаны с Альцгеймером и компанией). Но вот незадача: разницы не нашли. Мозгу, судя по крови, от вакцины ни холодно, ни жарко. Шапито «биомаркеров» тут спектакля не получилось. Это, кстати, важная ремарка: поддерживать надежду, что одна прививка навсегда сделает из пенсионера гения — рано. Молекулярное омоложение есть, доказательств прямой защиты мозга — пока нет. Тут либо мозг реагирует слишком медленно, либо анализ крови не уловил нужных изменений. На десерт ещё один парадокс – у привитых ухудшилось состояние адаптивного иммунитета (он отвечает за «память» к старым болячкам). Выглядит как не самая приятная плацкарта: вроде вакцина и работает, а иммунитет устал. Возможно, таким образом организм, наоборот, старается крепче держать вирус на поводке. А может — обычное старение иммунных клеток. Есть и ложка дёгтя: максимальные "омолаживающие" эффекты проявились у тех, кто вакцинировался последние три года, а вот снижение воспаления — у тех, кто сделал укол давно. Организм, выходит, не сразу благодарит за прививку — реакция у всех систем своя и расписание у каждой индивидуальное. Но не всё так радужно: это только наблюдение, а не клиническое испытание, потому доказательства здесь не железобетонные. Возможно, люди, которые идут за вакциной, изначально более бодрые или обладают лишними рублями. Учёные пытались нивелировать эти отличия, сравнив уровень дохода, образование и историю болезней, но кто знает, как оно на самом деле? Да и само исследование опирается на старую вакцину Zostavax, а на смену ей давно пришла новая — Shingrix, которая мощнее и популярнее. Никто не знает, даст она такой же эффект или оставит старение на прежнем месте. Мораль сей басни? Даже если вакцинация реально даёт фору в биологическом возрасте, когнитивное здоровье пока не спешит подписываться под этим соглашением. Тело молодеет, а мозг думает. Видимо, за окончательным ответом придётся подождать лет этак несколько: молекулы медленные, а старение упёртое — не даёт себе взять и «открутить» назад на пару десятков лет. Исследование «Association between shingles vaccination and slower biological aging: Evidence from a U.S. population-based cohort study» провели Jung Ki Kim и Eileen M. Crimmins.
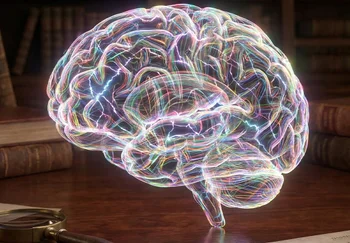
Когда Творчество Ломает Провода: Как Хаос в Мозгу Дарит "Эврику"
Все началось с очередного парада человеческой нелогичности и, как водится, с новой научной попытки объяснить, почему некоторые из нас вдруг выстреливают гениальной идеей, а остальные продолжают копаться в бумажках шаг за шагом. Группа нейробиологов решила разобраться: отчего некоторые люди регулярно выдают "Ого, придумал!", а другие даже для выбора чая в магазине составляют пошаговую инструкцию? Исследователи добрались до самой мякоти – белого вещества мозга. Белое вещество – это, чтобы не запутаться, своего рода интернет-провода, соединяющие разные районы серого вещества и обеспечивающие мозговой интернет: сигналы, мысли, обмен идеями. В деле приняли участие 38 человек – довольно скромная тусовка, но для исследований с дорогим МРТ – вполне типично. Всем раздали задачки на креативность, где нужно найти общее слово для таких, казалось бы, непохожих, как «краб», «сосна» и «соус» (правильный ответ – «яблоко». Кто бы мог подумать?). Кто решил загадку – честно сообщал, осенило ли его внезапно или результат был плодом нудного логического разбора. Одновременно у испытуемых сканировали мозги с помощью методики Diffusion Tensor Imaging (DTI). Это когда учёные не просто смотрят на мозг со стороны, а меряют, как вода там двигается – по сути, как хорошо ваши мозговые провода справляются с передачей данных. Чем выше показатель, называемый "фракционная анизотропия" (ФА), тем организованнее и плотнее провода; в академической среде принято считать, что это залог успеха. И вот тут начинается самое любопытное. Те, кто чаще ловил озарения, имели менее организованные связи именно в левой части мозга, в тех областях, которые отвечают за язык и смысл слов. Более рыхлые, расслабленные "провода". Выходит, когда ваш мозг чуть менее зажат шаблонами и правилами, появляется возможность отпустить контроль, дать себе расслабиться, и тогда в совершенно неожиданном месте вспыхивает реальный инсайт. А вот для тех, кто всё делает по шагам, никаких особых отличий в структуре мозга не нашли — возможно, тут главную роль играют не стабильные особенности, а мгновенная активность. И, между прочим, подобные парадоксы встречают не только в мозговой лингвистике. Учёные из Нью-Йорка недавно выяснили: когда вы вдруг распознаёте размытое изображение, увидев сначала его нормальную версию, работает примерно тот же эффект — ваш мозг лихорадочно ищет нужный шаблон среди старых воспоминаний. К чему все эти трубопроводы, аналоги интернет-кабелей и мозговые ухищрения? К тому, что сила иногда не в контроле, а в правильном ослаблении хватки. Когда мозг не так занят укладыванием мыслей по полкам, а позволяет себе пустить фантазию погулять, появляется та самая "Эврика". К слову, с этими результатами пока еще нужно быть начеку: 38 участников – не армия, к тому же испытания выявили связь, а не причину. Образование, возраст, опыт — всё это может вмешиваться в картину. Есть риск, что мы ещё увидим битвы академиков за стандартные шаблоны и трещащие по швам догмы. Короче, не спешите прокачивать мозговые провода ради эффективности – иногда хаос гораздо продуктивнее порядка. А если застигнет внезапная гениальная идея, вспомните: возможно, ваш внутренний электрик дал слабинку – и подарил вам озарение.

Кто вас вылечит — ваш мозг или таблетка?
Исследования в Японии наконец-то дали ответ на вопрос, почему одним таблетки от депрессии помогают, а другим — как горох об стену. Всё, как часто бывает в жизни, зависит от размеров: именно левый гиппокамп в мозге оказался тайным рычагом, способным переключить вас из режима «антидепрессант не работает» в «жизнь снова играет красками». И да, речь не о велосипеде, а об объёме структур головного мозга. Что же здесь важного? В крупных японских клиниках обследовали 107 человек с тяжёлой или средней депрессией, ровно напополам: чуть больше половины были женщины, возраст разбросан от 25 до 73 лет, средний — Всем им прописали эсциталопрам — знаменитый на Западе антидепрессант из семейства селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (тех самых SSRIs). Если в двух словах, это те таблетки, которые пытаются убедить ваш мозг снова начать радоваться жизни. Желая узнать, что там происходит в головах пациентов, учёные отсняли их на МРТ почти сразу после начала приема таблеток и затем, через 55 дней курса. Важное условие — те, у кого симптомы депрессии ослабли на 50% и более, считались «ответившими на лечение», остальные, соответственно, нет. Примерно половина пациентов — такие себе фармакологические счастливчики — действительно ощутили облегчение. 34% вообще ушли в ремиссию, когда депрессия ушла настолько тихо, что её почти не осталось. Ожирение, возраст и прочие банальные параметры разницы между этими счастливыми и неответившими не показали. Ключ лежал глубже — именно в левом гиппокампе. Оказалось, что у «ответчиков» изначально левый гиппокамп был заметно крупнее, чем у прочих. Картинка «кто в лес — кто по дрова» стала ещё интереснее: именно у тех, кому лекарство реально помогло, правый гиппокамп и его головка за время терапии раздулись сильнее, чем у остальных. Почему? Учёные и сами теряются в догадках. Возможно, лекарство помогает запускать рост новых нейронов в этих местах — такой себе мозговой фитнес. Но, ирония судьбы: никакой абсолютной причинно-следственной связи из этого набора фактов не извлечь. Во-первых, каждый третий пациент до второго обследования просто не дожил — в смысле, не дошёл до МРТ повторно, бросил исследование (а это значит, что выжившие, возможно, отличаются от выбывших — привет, смещённые выборки). Во-вторых, даже авторы статьи признают: мозговые объёмы — лишь часть уравнения борьбы с депрессией, но одна мысль бросает вызов представлениям — вдруг ключ к успешному лечению у кого-то буквально в голове побольше? Статью написали, закусив карандаш, учёные с японскими фамилиями, и, судя по всему, спорят о полученных выводах до сих пор. И если вы когда-нибудь услышите фразу «всё в вашей голове», теперь вы знаете: кое-где это чистая правда.

Тревожные перспективы: когда "улучшалка" для мозга пугает ещё больше
Неожиданные результаты нового исследования о мозговой стимуляции заставили нервно улыбнуться даже самых стойких оптимистов. Казалось бы, шикарная технология — без операций, без таблеток, только электроды на голове, и ты почти Эйнштейн без депрессии и страхов. Но вот незадача: мозг, как капризная кошка, реагирует не по инструкции. В исследовании, опубликованном в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, проверяли: действительно ли электрическая стимуляция лобных зон мозга поможет тем, у кого депрессия с тревожностью. Ожидалось, что слабый ток через кожу лба (это называется транскраниальная стимуляция постоянным током, или tDCS) подтолкнёт «мыслящую часть» мозга – лобную кору – сильнее контролировать паническую сигнализацию миндалины (это своеобразная пожарная сирена в глубинах вашего черепа, ответственная за страхи и тревоги). В теории всё красиво – а на практике? Ученые во главе с Tate Poplin и Maria Ironside из Института мозга Laureate в Оклахоме взяли 101 взрослого, у которых бушевали и депрессия, и тревога. Всем раздали ролевые костюмы для научного шоу: кто-то получал настоящую электростимуляцию лобной коры («пламенный мотор» мысли!), а кто-то — искусную имитацию, безо всякого электричества, но с ощущениями для правдоподобности. Никто ни о чём не догадывался: слепой эксперимент! Всё это происходило под гулким звуком МРТ-сканера: добровольцы лежали в трубе, на их лицах отображались то испуг, то безразличие (на экране показывали страшные и нейтральные лица, а поверх — буквы). Задача: выделить буквы, не отвлекаясь на эмоциональные рожи. Так измеряли «нагрузку на внимание». А затем в дело вступала физиология: испытуемым мерили силу моргания (рефлекс испуга) при резких звуках и угрозе удара током — иногда ожидаемой, иногда внезапной. Что получилось? С одной стороны, радуга и пони: у тех, кому взбадривали лобную кору, реакция и внимание на буквы были острее, мозг работал активнее, особенно в трудных заданиях — будто утром после литра кофе. Сканер показал: фронтальные области и теменная кора прям-таки светились энтузиазмом — нашествие бодрости. С другой — подставили подножку: как только ситуация становилась проще (задание легче), та самая миндалина — эпицентр страха — у этих же людей оживилась пуще прежнего! И уж если их пытались напугать внезапными звуками, они моргнули так, будто увидели коммунальный счет за год вперед: испуг, тревога, а не обещанное спокойствие. И тут вишенка на торте: ученые ожидали, что tDCS утихомирит внутренние тревожные колокольчики, а прибор, наоборот, подлил масла в огонь. Вроде бы мозг стал сообразительней, но жизнь от этого не стала спокойнее. Возможно, стимуляция работает не как транквилизатор, а как «турбо-режим» для всего эмоционального хозяйства — и для задачи, и для страхов. Конечно, спешить с выводами рано. Во-первых, активные эксперименты длились всего один сеанс, а на практике лечат неделями. Во-вторых, кто бы ни сталкивался с МРТ знает: ничего уютного — холодно, тесно, гудит. Для людей с тревогой – почти казнь! Может, стресс от аппарата сам по себе усилил эффект. Плюс, большая часть участников — женщины (впрочем, и депрессия с тревогой у них встречаются чаще), так что к мужчинам прямого переноса делать нельзя. Но вот что интересно: фронтальная стимуляция реально активизировала нужные отделы мозга и ускорила реакции, как хотели ученые. Только вот тревожность и пугливость никто не отменил — разве что добавили. Теперь специалисты гадают: а если совместить стимуляцию с активной психотерапией, например, с упражнениями на преодоление страхов? Может, в этом случае полученный мозговой «разгон» принесёт пользу и научит не только замечать опасность, но и игнорировать её в нужный момент. В итоге, вместо таблеточной магии или чудо-электродов нас ждёт стандартная мораль: чудеса бывают, но чаще мозг выбирает собственный путь, а учёным остаётся только удивляться его изобретательности — и не забывать моргать вовремя.
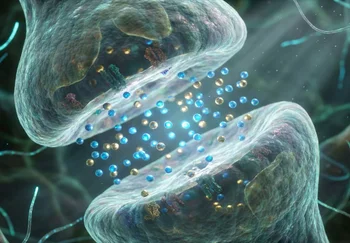
Айяуаска против страха: как крысы забывали о травме и что из этого выйдет для людей
На дворе XXI век, роботы умеют танцевать, а мы до сих пор не научились стирать дурацкие страхи из памяти. Впрочем, бразильские учёные решили дать бой посттравматическим воспоминаниям с помощью не самого банального способа — варкой айяуаски. И нет, это не очередная шаманская вечеринка, а вполне себе строгий эксперимент с крысами, электрошокером и игрой в доктор Франкенштейн на территории головного мозга. Айяуаска и крысы: что общего? Посттравматическое стрессовое расстройство, или ПТСР, — это когда мозг так впечатлился каким-то жутким событием, что теперь любое громкое "бух" вызывает желание спрятаться под диван. Проблема в том, что такие страхи упорно держатся, не желают забываться и мешают жить. Учёные из Бразилии взяли айяуаску — это такой галлюциногенный напиток из Южной Америки, где контрабандисты, шаманы и туристы духовной практики давно проводят свои ритуалы. Заварка тестировалась на 303 крысах (с равным гендерным балансом, равенство, как у людей), а сырье для эксперимента пожертвовала церковь Santo Daime. Крыс пичкали микродозой активного вещества айяуаски — диметилтриптамином (ДМТ), но только чтобы им не захотелось внезапно танцевать самбу. Как ломать страх у крыс: инструкция Сначала половину крыс хорошенько напугали: закрыли в пластиковой трубе на полчаса — стресс стопроцентный. Потом всех в специальной коробочке ударили током по лапкам. Ну, а затем начали терапию спасения: части крыс давали айяуаску, части – просто воду. И что? Обычно у испуганных крыс страх не проходит даже в безопасной обстановке – трясутся, будто чуют электричество на расстоянии. Но крысам, попробовавшим айяуаску, стало заметно лучше: они перестали столько застывать от страха и быстрее поняли, что их новая коробочка абсолютно безопасна. Любопытно, что уменьшилась и "генерализация страха" — крысы больше не шарахались от любой новой среды, будто жизнь – сплошной заряд электричества. Когда ток становится слишком сильным Учёные решили добавить жару и вместо стресса увеличили мощность электрического шока. Результат повторился: айяуаска опять помогла крысам быстрее "отпустить" страх и отличать опасное от безобидного. Причём работало как на самцах, так и на самках. Место действия — мозг, кулинар — нейропластичность Самое интересное только начиналось. Исследователи запустили хирургическую операцию: вживили крысам канюли в ту самую область мозга, что отвечает за угасание страха — инфралимбическую кору. Через них подавали вещества, блокирующие определённый белок — BDNF (фактор роста нервов), а также его рецептор TrkB. Если BDNF блокировали, эффект айяуаски испарялся, как вода в пустыне: крысы вновь застывали от страха. Оказалось, именно BDNF и его рецептор — ключевое звено для "перезаписи" пугающих воспоминаний. При этом у самок и самцов в части генерализации страха дела пошли по-разному: если самкам блокировали нужный белок — никакой пользы, у самцов же работали другие загадочные структуры мозга. Что это значит для людей, кроме новых анекдотов про крыс и айяуаску? Во-первых, айяуаска — не просто "шаманский чай для колдунов и хиппи-самоучек". Она реально влияет на пластичность мозга — его способность перестраиваться и забывать то, что раньше казалось концом света. Правда, до клиники ещё далеко: всё таки крысы — не люди, да и дозы ДМТ использовали минимальные, без психоделических "танцев шамана". Во-вторых, у мужчин и женщин даже крысиные мозги по-разному обрабатывают тревожные переживания. Вполне возможно, что в будущем терапии будут подбирать под пол пациента, а не стандартно "одна таблетка на всех". Ну и наконец, это всего лишь лаборатория. Никто не предлагает срочно пить айяуаску при первом звоночке страха или покупать билет в джунгли. Но сам факт — наука вплотную подбирается к чужим воспоминаниям и готова их перенастраивать, как обои на рабочем столе. Так что если ДМТ — это ключ, а BDNF — замок, осталось только подобрать правильный сценарий. Может, через несколько лет на терапии по ПТСР будут не только разговоры, но и что-то явно поинтереснее.

Мозг выбирает чипсы за вас: как реклама дергает нас за невидимые ниточки
Вам знакомо это загадочное чувство: только услышал знакомую мелодию из рекламы — уже рука тянется на полку за пачкой чипсов, будто сам не понимаешь почему? Наука теперь готова подбросить вам неутешительный, но очень занятный ответ: мозг, оказывается, готовит действие задолго до того, как вы даже приняли решение. Свежайшее исследование, опубликованное в The Journal of Neuroscience, выяснило: достаточно бросить во внимательный взгляд знакомый объект (примерно как логотип очередного кисломолочного гиганта в магазине), и наш премоторный отдел мозга уже в полной боевой готовности. То есть, до того как вы успели решить, брать вам эти йогурты или нет, ваше тело уже готово их заполучить. И тут наука, как тот строгий знакомый, признательно сообщает: мы всё время принимаем решения не как разумные существа, а как хорошо дрессированные собаки. Ученые называют это страшным словом "Pavlovian-to-instrumental transfer" — когда вы реагируете на знакомый сигнал не раздумывая, будто слышите звонок — идете к миске (или в наш век — к кассе супермаркета). Авторы эксперимента не поленились: загнали 42 студента в лабораторию (22 девушки, 20 парней, примерно по 23 года), надели на них шапочки с электродами (ЭЭГ, если по-научному) — и заставили играть в электронный однорукий бандит. В первой части участникам показывали квадратики разных цветов — три из них сулили разные любимые продукты, четвёртый был пустышкой. Потом их научили: если хочешь деликатес номер один — жми на левую кнопку, если номер два — на правую. Был и третий лакомый кусочек, к которому не прикасались к кнопки — вот такой интеллектуальный "голод". Кульминационный момент: показывают цвет, пока ни одной кнопки нет перед глазами, ждут три секунды, и вот только потом дают право выбора. И тут внимательные учёные выписывают диагноз: когда появлялся цвет, связанный с конкретной вкуснятиной, мозг уже тихо включал моторную подготовку именно той руки, которая отвечала за соответствующую кнопку. Эффект настолько четкий, что ЭЭГ фиксирует уменьшение мощности бета-волн в соответствующем полушарии — настоящий сигнал "приготовиться!" для руки ещё до того, как та увидит кнопку. Иными словами, хватает одного взгляда на знакомое — и ваш моторный отдел уже дрожит в предвкушении. Универсальная реакция? О, ещё какая. Стимулы с общим вознаграждением подгоняли участников действовать быстрее (за что отвечает общая система мотивации), но в мозгу вспыхивали совсем другие частоты — без точной настройки на конкретную руку. И все это, замечает автор исследования Луиджи Альберто Энрико Дегни, происходит молниеносно: спасибо ЭЭГ, теперь мы знаем — моторная система реагирует на стимулы быстрее, чем вы вспомните, каким пальцем жать на замусоленную банковскую кнопку. Конечно, как всегда, есть оговорки. Итальянские ботаники не стали разбираться, что происходит, если испытуемый вдруг решается пойти против системы и жмёт на "неправильную" кнопку. Таких случаев набралось мало — и рассматривать, как мозг борется с привычной дорожкой, пока рано. Ну и да, лаборатория — это не суматошный магазин и не улица, где всплывающие надписи "Акция!" поджидают на каждом углу. Так что, если даже тут мозг превращается в механическую пятёрочку, в реальной жизни эффект ещё сильнее. Будущее за изучением тех, кто умеет сопротивляться этим невидимым поводырям. Каковы особенности мозга у тех, кто не идет на поводу у рекламы? Чем отличаются их нейроны? Пока ответов мало, но одно ясно: моторика наших поступков плотно завязана не на осознанный расчет, а на вшитые до автоматизма реакции. И кто знает — быть может, совсем скоро очередной звоночек "Скидки!" заставит вашу руку выхватить то, о чём вы даже не собирались думать. Ну а наша вера в свободу воли… Пусть полежит рядом с пачкой чипсов — на всякий случай.

Пять фаз человеческого мозга: от катания в коляске до боя с пенсионкой
Ученые вдруг осознали: мозг у человека развивается не как аккуратно нарисованный график, где всё медленно, плавно и предсказуемо. Нет, наш серый друг живёт по своим странным законам, меняясь скачками через целую серию «контрольных точек», словно игрок, ждущий босса в каждой возрастной зоне. Анализируя тысячи МРТ-снимков людей — от младенцев, которым ещё и месяца нет, до любителей отмечать 90-летие, исследователи нащупали четыре ключевых перелома: примерно на 9, 32, 66 и 83 годах. Эти даты — не просто милые числа, а прямые маркеры капитального ремонта в нейроархитектуре. О таких результатах бодро отчитались в Nature Communications. Так вот, первая фаза — вся эта утомительная суета с сосками и криками, с рождения до девяти. Мозг тут как раз на этапе яростной стройки: объёмы растут, сети нейронов множатся, связи — как незаконченный лабиринт IKEA на скидках. К девяти годам дело доходит до финального редактирования — лишнее выбрасывают, нужное оставляют. Неудивительно, что этот поворот совпадает с наступлением загадочного зверя под названием «пубертат». Вторая эпоха — от 9 до 32 лет. Знаете, та самая взрослая жизнь, про которую раньше думали: «Вот вырасту — и…». Нет, не вырастаешь — мозг всё ещё работает подростком! До 32 он только учится связывать регионы, прокладывая быстрые маршруты, чтобы не терять время на объездные пути. Возникает так называемое «малый-мирное» устройство: локально все обнимаются, глобально — связаны через общие чаты. Поворот на 32 — самый резкий и драматичный. Тут, кажется, мозг решает: всё, хватит строить, пора жить как все. Третья стадия — с 32 до 66 лет: вы бы думали, здесь расцвет! А вот и нет: развитие замирает, система уходит в стабильность (или просто даёт себе немного отдохнуть). Мозговые регионы начинают замыкаться в себе — никакого тебе open space, все по офисам. Психологи и раньше замечали: как раз в эти годы характер устаканивается и умственная пластичность начинает сдавать позиции. С 66 до 83 лет стартует четвёртая глава, которую условно можно назвать «раннее старение». Именно здесь почему-то приходит гипертония, а вместе с ней — проблемы с мозговыми кабелями. Система начинает упрощаться, связи редеют, иронично напоминая разъединённость родственников после семейных скандалов. Наконец, после 83 наступает фаза «Где мои очки?», когда глобальная связность сети практически исчезает и каждый участок мозга живёт своей жизнью. Кто выжил — тот и молодец. Гениальное — в деталях: переломы структуры мозга подозрительно совпадают с социальными и биологическими вехами. В 9 лет — гормональная буря и сюрпризы психики, к 32 прекращается рост белого вещества и приходят первые признаки взросления (по паспорту), в 66 — время пенсионки и прочих радостей, а после .. сами знаете, там уж начинается лотерея воспоминаний. А теперь важная оговорка: исследование — не комиксы про одного героя, а данные о разных людях. То есть нельзя гарантировать, что ваш мозг тоже разметёт свои постройки ровно по календарю. Может, у кого-то пубертат наступает одновременно с руководящей должностью, а у кого-то и на пенсии только начинает «шевелиться». Но тенденции есть — и это уже повод задуматься. Кстати, учёные разбирали именно структуру мозга, то есть как выстроены провода и станции. Как себя при этом вы ведёте — отдельная статья. Так что если кто-то из тридцатилетних внезапно начнёт обвинять мозг в подростковости — не верьте. Это просто инженеры внутри прокладывают кабели получше. В будущем исследователи хотят проверить свои находки на одних и тех же людях в течение жизни (а не собирать срезы по возрасту) и посмотреть, как всё это выглядит у тех, у кого с мозгом сложности: расстройства, заболевания и прочие радости современной неврологии. Да, статью написали Alexa Mousley, Richard A. I. Bethlehem, Fang-Cheng Yeh и Duncan E. Astle. Не благодарите, если жизнь стала понятней.

Стартовать с мозгом: как нейронаука собирается «прокачать» предпринимателей
Можно ли научиться запускать бизнес не по учебникам, а с помощью электродов на голове? Очередная порция плохих новостей: сколько бы правительств ни сотрясало воздух красивыми программами развития предпринимательства, число желающих реально стартовать со своим делом по-прежнему не улетело в космос. Почему? Может быть, магия предпринимательства не в очередных чек-листах, а где-то под черепом? Сегодня успех начинающего бизнесмена – это не только знание Excel и прописанный бизнес-план. Куда важнее – умение не впадать в ступор при виде неясного будущего, творить креативно и, если что, прятаться от собственных страхов за ширмой устойчивости. Хочешь добиться своего – держи в тонусе внимание, эмоции, гибкость ума. И тут на сцену выходит нейронаука. В свеженькой книге «Предпринимательство и нейронаука: исследования с помощью мозга» появляется идея: прокачивать мозги потенциальных предпринимателей с помощью научных технологий. Больше никаких унылых семинаров с говорящими головами. Теперь в моде – когнитивные тренировки, навязанные электродами и, внимание, музыкой. Ранее учёные уже пытались разложить предпринимательский успех по полочкам: сначала копались в экономической роли бизнесменов, потом искали у них особые черты характера и мотивации, после придумывали управленческие учебники. Но теперь фокус сместился: если хочешь сделать из человека Павла Дурова или кого-то попроще, начни с его нейронных связей. Биологическая магия не ограничивается тестами и интервью на тему «кем ты видишь себя через пять лет». Современный гаджет – электроэнцефалограф (ЭЭГ) – подарил учёным жуткую радость: теперь они могут отследить, как у “предпринимателей будущего” дергаются мозговые волны при виде слов типа «радость» или «ужас». Ты, конечно, можешь думать, что собеседуемый просто чесал затылок, но нейроэксперимент показал: если человек настроен на стартап, его мозг по-своему реагирует на эмоции и делает ставки на риск гораздо тоньше. Причём даже если в поведении субъектов ничего не заметно – мозг работает иначе! Оказывается, у предпринимателей с «желанием создать свой бизнес» мозги шевелятся активнее в тех областях, что отвечают за внимание и смысл. Значит, даже когда они выглядят спокойными, внутри у них идёт нервная вечеринка по принятию решений, причём совсем не так, как у обычных людей. Кажется, в моде теперь не просто развивать «soft skills», а накачивать мозг, чтобы он научился работать с эмоциями, быстро переключаться и держать фокус, когда вокруг всё горит ярче, чем крипторынок. И ЭЭГ позволяет всё это наблюдать в реальном времени, чтобы, если что, дать пинка нужному отделу мозга. Родились даже новые «нейродружественные» методы: студентов, например, на летней школе в Сиане не просто грузили лекциями. Им давали фокусироваться на движущихся объектах, мастерить мини-роботов и вслух делиться, что творится у них внутри. Не факультет, а кружок магов по нейроапгрейду. И это только начало. У исследователей явно не хватило апгрейдов от Burnout, поэтому они обратились и к музыке. В музыке, оказывается, тоже скрыты нейронные тропы: некоторые композиции способны не просто «расслабить» или «зарядить», но прямо заточены на то, чтобы учить мозг концентрации и мотивации. Берём минималистическое фортепиано от Steve Reich – и вот уже у слушателя всё внимание, как у сапёра в минном поле. Пошли дальше: создали специальный альбом Take the Leap c использованием особых алгоритмов для «предпринимательской тренировки мозга». Любишь кино, музыку и интерактив? Получи WNYLE Method – уникальный подход, где мозг учат работать с эмоциями через кино-истории, тематическую музыку и продуманные ментальные упражнения. Вся эта солянка помогает научить мозг обрабатывать информацию глубже, чем офисный кофемашина кофе. Вывод печально-бодрящий: если вам казалось, что предпринимательство – это про смелость, риски и таблицы, забудьте. Сегодня успех – это чуткая настройка нейронов, тренировка внимания и прокачка мозговых мускулов с музыкой на фоне. Институты будущего, похоже, создаются не в Гарварде, а в невидимых лабораториях, где мозг делают чуть проворнее, чем среднестатистический телезритель. Ирония? Мы только на старте. Возможно, скоро вашу бизнес-идею оценит не инвестор, а ЭЭГ со смешной шапочкой.
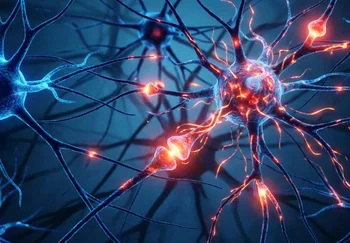
Три дня без клетчатки — и вы уже забыли, где оставили тапки: новая наука о стареющем мозге
Ученые из Университета Огайо решили докопаться до самой сути: почему люди с возрастом начинают не только терять нитку в разговорах, но и ключи в самых неподходящих местах? Казалось бы, все банально — жри побольше овощей и меньше булок с маслом, и мозги будут на месте. Но нет, все оказалось еще печальнее и, как водится, гораздо смешнее. Смысл нового исследования прост, как две копейки: даже трех дней на очищенных, рафинированных продуктах без клетчатки достаточно, чтобы у пожилых крыс появились провалы в памяти. Причем, дело не только в проценте жира или сахаре — кого волнует конкретно масло или мармелад, если результат один: мозг тухнет тихо и быстро, особенно участок, отвечающий за страх и эмоции. Это знаменитая миндалина — тот самый внутренний сторож, который учит нас помнить плохое, чтобы не наступать на одни и те же грабли. В чем была задумка? Раньше все исследования сваливали на бедный жир: мол, слишком жирная еда портит память. Но авторы — профессор Барриентос и доцент Баскин — решили встряхнуть этот пыльный стереотип. Они взяли двух возрастных категорий крыс: молодых (ну, почти студентов) и старых (почтенные пенсионеры). Крыс кормили три дня разными рафинированными диетами: где меньше жира, где больше сахара, а где наоборот, плюс контрольная группа на стандартном крысином "макарошке" с клетчаткой. Апофеоз: память старых крыс справлялась с любой булкой, пока не отобрали клетчатку. Она выпала из рациона – выпала и память, особенно когда дело доходило до страха. Ни сахар, ни жир особой роли не сыграли. Молодежь держалась стойко — от трехдневного сухпайка у них мозг не сдавал позиций. Это ли не повод в очередной раз позавидовать молодости? Почему так случилось? Авторы пустились в глубины крысиного мозга: измерили работу митохондрий — это такие внутренние электростанции клетки. Без клетчатки у старых крыс энергетика падает: мозговые "ГАЭС" становятся ленивыми, почти как телефон на старой батарее ближе к вечеру. Особенно пострадала миндалина: тут митохондрии буквально отказывались работать при любой диете без клетчатки. Далее — классика жанра: ученые заглянули в кишечник крыс и обнаружили резкое падение уровня бутирата — вещества, которое получают бактерии из клетчатки. Бутират — словно смазка для мозговых шестеренок, его нехватка быстро ведет к пробуксовке памяти. Зависимость очевидна: меньше клетчатки — меньше бутирата — хуже память. Страшнее всего, что это не просто про старых крыс: рафинированные продукты у нас под носом ежедневно – всякие булочки, крупы, сладкие хлопья. И если их есть долго и упорно, у мозга появится шанс вырубить сигнал тревоги: уже не вспомнить, где тут опасно, а где просто повод поесть ещё булочек. Для пущей уверенности ученые изучили протеом — набор белков в мозгу крыс. Оказалось, что у старой миндалины "белковый реестр" стал напоминать телефонную книгу после корпоратива: нестабильно, хаотично, и к нужному контакту не дозвониться. Особенно от этого страдает не только память, но и способность мозговых клеток реагировать на опасность. У авторов есть предостережение: исследование было только на мужчинах-крысах — женская часть, как водится, осталась за кулисами. К тому же, ученые пока не доказали, что добавление клетчатки способно обратить вспять все эти плачевные изменения, хотя логика просится сама. Но даже этот трехдневный эксперимент — хороший повод задуматься: стоит ли променять полезный салат на бездушные булочки?

Интеллект на часах: Почему разные части мозга тикают по-своему и как это связано с умом
Новая научная сенсация прямо из лабораторий для тех, кто уверен, что в его голове не просто пустое эхо! Оказывается, каждая часть нашего мозга работает в своем личном, строго засекреченном ритме, и этот внутренний хронометр может рассказать о нас намного больше, чем мы привыкли думать. Целая команда нейроучёных, вооружившись томографами и матрицами плотнее, чем расписание московской электрички, решила выяснить, как разные области мозга общаются между собой и почему это, возможно, и есть секрет вашей сообразительности. Для начала разберёмся с пафосным словечком «коннектом». Это не новомодная соцсеть для гениев, а карта всех связей между миллиардами наших нейронов, опутанными белыми волокнами мозга — примерно, как карта метрополитена для химически зависимых на информации. Мозг — он, в отличие от офисного планктона, не любит вставать на работу одинаково везде. Одни зоны веселятся в темпе «ускоренного интернета»: те самые, что отвечают за моментальный анализ картинки и звука. Другие предпочитают разгоняться медленно, особенно если речь о «тяжёлых» думских работах и принятии решений. Это и есть пресловутые внутренние нейронные временные масштабы — свой идеальный тайминг у каждой зоны. Инженеры у себя в подвалах давно читают мудрые книжки про Network Control Theory — такую теорию, которая объясняет, как тасовать состояния в сложных системах. Но эти ребята из мира мозга пошли дальше: их устаревшие модели считали, что весь мозг пашет с одинаковой скоростью, как армейский взвод на учениях. Нашли грабли: так почти не бывает! Джеймсон Ким из Корнелла (не улица, а университет, если что) и Линден Паркес из Ратгерса с коллегами разработали новую математическую модель, где каждая область мозга получает собственный таймер. Источник вдохновения — данные о сотнях молодых людей из проекта Human Connectome, сканы мозга и фильмы из разряда «загляни в череп своему соседу». Умный алгоритм учился, как быстро угасает сигнал в разных уголках мозга. Отдельный восторг — это сравнение результатов с так называемой «энергией управления». Чем меньше энергии тратит мозг на переключения режимов, тем эффективнее работает. Новая модель оказалась просто чемпионом среди серых клеток — мозгу понадобилось куда меньше «толчков», чтобы перейти из одного состояния в другое. Можно ли доверять цифрам? Проверили ещё и по генам! Взяли замечательный Атлас мозга (Allen Human Brain Atlas) — и выяснили: все эти разные времена работы областей мозга хорошо коррелируют с плотностью определённых видов тормозных клеток-интернейронов. Поклонники молекулярной кухни оценят: парвальбумин — для скоростных зон анализа, соматостатин — для тех, кто любит подумать подольше. Эксперимент на мышах тоже удался, видимо, у грызунов вечеринка с теми же принципами организации нервных сетей. В общем, эволюция решила не изобретать велосипед, если тот и так крутится отлично. Самое интересное: модель объясняет, почему одни люди гибче в мышлении, а другие до сих пор не осилили даже половину кроссворда. Те, у кого собственные ритмы мозга лучше синхронизированы со структурой связей, легче перескакивают между разными состояниями и задачами. И на тестах по пространственному мышлению и логике они тоже дают фору соседу. Не всё, конечно, так радужно. Аппараты МРТ — штука неторопливая, сигналы мозга бегают быстрее температуры в июне, а карта связей — черно-белая работа художника, без направления стрелки. Но даже несмотря на эти ограничения, похожие результаты получились у мышей с их микроскопами, где направление волокон можно проследить. Что дальше? Наверняка разбираться, как эти часы внутри нас сбиваются с курсом при шизофрении или аутизме, и можно ли по этой модели поймать болезнь на ранней стадии. А может, однажды придёт момент, когда про вас будут судить по темпу, с которым ваш мозг переключается с задачи на задачу, а не по объёму лайков в ТикТоке. Работу провели Джейсон Ким, Ричард Бетцел, Ахмад Бейх, Амбер Хауэлл, Эми Кучейски, Барт Ларсен, Кайо Сегуин, Си-Хан Чжан, Аврам Холмс и Линден Паркес — вот такие ребята, которым можно доверять свой самый главный таймер в голове.

Дыши медленно, забудь Альцгеймера: Как медитация с замедленным дыханием удивила ученых
Если вы считаете, что спокойное дыхание — удел йогов и рекламных роликов белого чая, у меня для вас новости, которые вы явно не ожидали. Дружная команда ученых решила узнать, можно ли превратить утренний вдох-выдох в нечто гораздо более крутое — инструмент профилактики болезни Альцгеймера. И, внезапно, их эксперимент дал весьма неожиданные результаты. Суть эксперимента проста, как свежая простыня в отеле: берём три группы людей, все молоды, бодры и ни разу не медитировали по-серьезному до этого. Одних учим дышать медленно и размеренно (пять секунд на вдох, пять — на выдох, итого шесть дыханий в минуту), вторых заставляем просто задуматься о собственном животе, а третью — оставляем в покое, пусть живут как обычно. Спойлер: группе “смотрите на живот” повезло не больше, чем тем, кто вообще ничего не делал. Что ищут ученые? Они гоняются за белками, не теми, что бегают по деревьям, а теми, которые называются амилоид-бета. Эти крошечные пакостники склонны группироваться в мозге в виде бляшек — основной признак болезни Альцгеймера. Когда их становится слишком много, мозг начинает давать сбои. Так вот, задача: как бы заставить этот белок либо производиться меньше, либо выводиться медленнее (или быстрее — смотря с какой стороны взглянуть). Но вернемся к эксперименту. Все участники сдавали кровь до и после недели двухразовых медитаций по 20 минут. И что же? Те, кто честно задерживал дыхание и выполнял все упражнения на медленное дыхание, ощутили снижение уровня тех самых амилоидных белков в крови. Прямо-таки быстрый способ заставить свой мозг почувствовать себя лет на пятнадцать моложе. А теперь внимание: участники, которых просто попросили осознанно дышать, без всяких счетов, наоборот, повысили уровень этих белков. Какая-то парадоксальная гимнастика: думал, пользу принесешь — а принес неприятностей. Учёные объясняют: когда вы просто сосредоточены на дыхании, не особо заморачиваясь ритмом, мозг радостно вырабатывает норадреналин — тот самый гормон, который, казалось бы, бодрит, но заодно и увеличивает производство “альцгеймеровских” белков. А вот осознанное, медленное дыхание включает парасимпатическую нервную систему (та самая, что отвечает за спокойствие), и уровень белков снижается! Хотите сдать кровь и узнать, сколько у вас амилоида? Пока что можно только ждать — анализ лабораторный, до масс-маркета ещё не дошёл. Циничность ситуации усугубляется тем, что психологическое состояние участников (стресс, тревожность и так далее) не изменилось вообще никак. Хоть медитируйся вусмерть — за неделю настроение не улучшилось. Впрочем, для временной перспективы — неостановимое счастье — у ученых в запасе остались роскошные планы: они собираются проверить, изменятся ли результаты спустя месяцы или годы и есть ли шанс, что такое дыхание реально затормозит изменения в мозге у пожилых. Отдельное упоминание заслуживают попытки сравнить медитацию со сном: мол, сон каждую ночь выводит эти белки, но, к сожалению, ни одна программа улучшения сна не переплюнула естественный ночной отдых. И вот теперь у нас появляется еще один, потенциально бесплатный и даже скучный способ запутать Альцгеймера — просто дыши медленно (желательно не забудь выдыхать). В общем, если вам когда-нибудь казалось, что дыхательные практики — ерунда и дело для бездельников, советуем пересмотреть взгляды. По крайней мере, есть шанс, что лет через пятнадцать вы обрадуетесь, что попробовали. Главное — не задышитесь.

Психология и нейронаука 2025: открытия года, которые перевернули мозги (буквально)
2025 год оказался щедр на сенсации в психологии и нейронауке — прямо как будто ученые нашли у человеческого мозга скрытое меню с опциями, о которых никто и не подозревал. То бактерии из кишечника внезапно стали кукловодами нашей тревоги, то пожилые лихо осваивают подростковый сленг, а таблетки от бессонницы заодно подлатали мышиный мозг. Давайте посмотрим, какие исследования тронули нервы публики и почему теперь даже чашка утреннего кофе — это почти что сеанс самоуправления здравием. Вирус-невидимка и Альцгеймер. Почему-то всем казалось, что обычная простуда — максимум неприятных ощущений на губах. Как бы не так! Виновник герпеса (herpes simplex virus type 1) втихаря устраивается у нас в клетках и, дождавшись старости и ослабления иммунитета, выходит на сцену, чтобы зажечь воспалением и скоплением токсичных белков в мозге. Особенно рискуют те счастливчики, у кого есть ген APOE4 — тот самый, что и так считается зловещим предвестником деменции. А тут выясняется: может, пора задуматься о вакцинах против герпеса не только из эстетических соображений. Лекарства: память — не резиновая. Среди полумиллиона (!) человек ученые изловчились увидеть неуловимую, но статистически достоверную связь между препаратами (и аптечными, и рецептурными) и когнитивными способностями. Антидепрессанты и таблетки от эпилепсии слегка тормозят реакцию и память, тогда как старые-добрые обезболивающие и даже глюкозамин (да-да, добавка для суставов) внезапно ассоциированы с бодростью ума. Эффекты на уровне одного человека вроде бы мизерные, а вот когда таких людей миллионы — общественное здоровье может спокойно завести себе новое поле битвы. Лекарство от сна для уставшего мозга. Средство от бессонницы (лемборексанта, если по-научному) не только делает мышей сонными, но и очищает их мозг от злополучного белка тау (виновника болезни Альцгеймера). Пока испытания только на мышах, но если и люди вдруг начнут реагировать так же — готовьтесь, доктор Хаус получит новый инструмент в войне с деменцией и воспалениями мозга. Прокачка воспоминаний во сне. Кто там говорил, что во сне лишь умирают нейроны? Оказывается, спя, можно ослабить негативные воспоминания, да еще и взбодрить хорошие! Достаточно дождаться нужной фазы сна и пустить по ушам позитивные аудиосигналы — мозг переписывает эмоции, как заправский сценарист. Техника уже обещает стать безлекарственным ответом для тех, кого мучают тревожные расстройства. Где живет тревога? Правильно, в животе! Неугомонные ученые взяли бактерии из кишечника социально тревожных подростков и подселили их новорожденным крысятам. Те немедленно тоже стали шарахаться своих (и чужих) сородичей. А кое-какие микробы, вроде Prevotella, прямо отзывались на тревожущее настроение. Видимо, новая мода в психотерапии — вместо психоанализа вносить коррективы в меню пробиотиков. Как понять, что память уезжает на дачу? Особо наблюдательные выяснили: пожилые — не только ругаются на молодежь, но и ходят по улицам как-то более нервно. Если человек начинает чаще останавливаться и судорожно оглядываться по сторонам во время обычной прогулки, это повод проверить когнитивные функции: такой стиль ориентирования может предвещать Альцгеймер еще до первых провалов в памяти. «Молодым везде у нас дорога», или всё-таки нет? Многие думают, что язык меняют только дети с TikTok и инфлюенсерами за пазухой. На деле благодаря анализу речей американских конгрессменов (без шуток — миллионы речей за десятилетия) выяснилось: пожилые не только не отстают, но иногда и задают тренд на новые слова! Так что не спешите считать бабушку отставшей от жизни — быть может, она уже заранила пару модных выражений в ваш лексикон. Кофе: пить утром или не пить? Исследования показали, что утренний кофе — не только способ разлепить глаза, но и билетик к снижению риска преждевременной смерти, особенно сердечной. А вот если пить кофе после полудня — увы, никакой магии. Видимо, внутренняя биология настойчиво шепчет: «Хватит кормить сердце кофеином ночью!» Таблетка от давления как спасение для невнимательных? А вот нежданчик: стандартная таблетка от давления (амлодипин) уменьшала у крыс и рыб гиперактивность и импульсивность — то есть симптомы, дружно называемые СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). До побочек у амлодипина руки не дотянулись, зато гиперактивность он обуздал как настоящий шериф в Диком Западе. Сладкое без калорий: интеллект или голод? Сукралоза — сахарозаменитель, он же кумир худеющих. Но мозг с этим сладким обманом не согласен: захватывающее изображение работы мозга доказывает — после подделки сахара аппетит только звереет. Особенно этот хитрый ход выдает женщин и людей с избыточным весом. Хороший повод задуматься: точно ли вредно немного сахара? Кофеин: спасение или помеха? Если вам кажется, что кофе бодрит всегда одинаково, то плохо присматривались к своей ДНК. Кто быстро перерабатывает кофеин, после его большой дозы начинает путаться в эмоциях, а вот умеренный прием им помогает. Решение простое — прокурор внутри нас зовется Геном, и он решает, бодрит нас кофе или превращает в эмоционального робота. В очередной раз наука доказывает: всё не так однозначно, да и ответов больше, чем хочется. Хотя одно ясно точно: наши тела и мозги — это не конечный продукт, а сборный конструктор из микробов, лекарств и случайных слов, который еще долго будет преподносить сюрпризы.