Исследования по тегу #эмоции

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.
В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.
Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.
Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.
Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Отец года: как папина реакция на детские слёзы решает судьбу ребёнка
Новое исследование в журнале Development and Psychopathology решило, что нам есть что сказать про пап и их реакции на истерику у ребёнка. Оказывается, если папа реагирует на нытьё чада как айтишник на звонок из банка — сухо и с каменным лицом, то у ребёнка через пару лет становится меньше проблем с упрямством и злостью. А если папа начинает обхаживать дитя, в обнимку и с трогательным голосом, то получаем тревожного домоседа, которому лучше бы не выходить за хлебом без сопровождения взрослых. Исследование задумывалось очень серьёзно: команда из Университета Рочестера (США) заманила в лабораторию 235 отцов с их трёхлетками (причём 55% — девочки) ради научного эксперимента. Атмосфера — как у бабушки в гостях: уютная комнатка. И тут на сцену выходит мужчина в костюме клоуна. Или просто заходит молчун в мусорном пакете. Реакция отцов, когда у ребёнка натурально дёргается глаз — вот что ловили учёные: кто игнорирует, кто сжимает чадо в стальные объятия. В итоге учёные выделили две стратегии: первая — "деактивация". Папа тут как монумент: мало слов, взгляд где-то в стену, объятий вы не дождётесь. Вторая — "гиперактивация": папа переходит на полнометражный мультфильм, голос — колокольчиком, ребёнок чуть не в конверте из заботы, а иногда и заставляет пообщаться со страшным гостем. Теперь самое весёлое. Через два года исследователи снова нагрянули к этим семьям. Мамы отвечали на вопросы о поведении детей. Результат — классика жанра: у тех, чьих папы предпочитали "деактивацию", дети реже устраивают бунты, меньше дерутся и не чистят папе ботинки кулаками. Видите ли, такие папы дают ясно понять: "Громко ныть — не здесь, и не сейчас!". Вот и приходится малышам не устраивать истерики и слушаться — иначе и пятёрку лишний раз не погладят. А вот с "гиперактивацией" вышла другая песня. Обожаемые, утёсанные вниманием, дети стали куда более нервными, сторонятся сверстников, уже думают два раза, прежде чем в песочницу залезть. Исследователи уверены: гиперопека не только понижает автономность, но ещё и лишает веры в собственные силы. Заколдованный круг: чем ярче папа прыгает вокруг ребёнка — тем сильнее тот прячется в свою скорлупу. Фокус в том, что эти две линии поведения привели к совершенно разным результатам. Деактивация влияла лишь на внешние проявления — агрессия, упрямство, а гиперактивация — на внутренние: тревожность, застенчивость. Но, чтобы не быть голословными, уточним — страх остаться без папы тут ни при чём, так называемую "тревогу разлуки" гиперактивация не трогала. Не обошлось без ложки дёгтя: исследование смотрело только на отцов, мам оставили за кулисами, и вообще, насколько оригинальная методика работы с клоунами применима к нашему суровому отечеству — ещё вопрос. Ну и все выводы — со слов мам, то есть с поправкой на домашних условиях: в детском саду ситуация может быть другой. Авторы этого шабаша: Cory R. Platts, Melissa L. Sturge-Apple и Patrick T. Davies. Не забудьте вписать их в свой личный топ-10 героев родительского фронта.

А если в голове пусто? Учёные изучили, как мозг живёт без внутренней «картинки»
В мире есть люди, которые не просто не видят будущего — они вообще не видят ничего у себя в голове! Нет, это не про очередного начальника из анекдота. Речь о людях с афантазией — это такая редкая штука, когда в голове не возникает ни одного воображаемого образа, хоть тресни. Не так давно в подкасте Speaking of Psychology у Ким Миллс побывал Джоэл Пирсон — нейробиолог, профессор из австралийского Університета Нового Южного Уэльса. Он, между прочим, руководит лабораторией Future Minds Lab — то есть реально занимается будущим умов. Там Пирсон простой вещь объяснил: у людей с афантазией — никакой визуализации, никаких мысленных картинок. Представь: закрываешь глаза, а вместо радуги и пляжей — сплошная радиошумная тьма. Саму афантазию впервые описал ещё Френсис Гальтон в XIX веке, но только в 2015-м ей дали нормальное название. Тут и посыпались откровения: выяснилось, что таких особенных — минимум 4–5% населения. А может, и больше, потому что простые опросы не работают: многие с афантазией думают, что "воображать" — это какая-то метафора для поэтов. Для них открытие, что другие люди прямо в голове кино крутят, — шок посильнее финала сериала. Чтобы доказать, что у одних в голове картинка, а у других только белый шум, учёные начали хитрить с тестами. Есть такой фокус: человеку показывают разным глазам разные картинки. Если обычный человек заранее представит себе, скажем, полоски, глаза и мозг тут же выхватят именно их. А вот у афантазиков — тишина, никакой форумной инсайдерской поддержки мозгу. Экспериментаторы пошли дальше, замеряя размер зрачка. Если мысленно вызвать "солнечное" свечение, у большинства людей зрачок сжимается, будто реально вспыхнул свет. А у афантазии — ничего, будоражить глаз не получается. Кто бы сомневался: в пустоте ярких картинок не бывает! Пирсон рассказал, что у тех, кто умеет визуализировать, зона мозга с оригинальным названием "зрительная кора" больше и чище — там меньше фонового шума. Можно сказать, чтобы мечтать, мозгу нужен идеальный порядок. Хоть тут чистота помогает! Ну, а бонус для афантазиков — это эмоциональная броня. Не получается в голове кино, не получается и ужасаться страшилкам с книжных страниц. Эффект страшной истории в голове минимальный, а флэшбэки, как при посттравматическом синдроме, случаются реже и не так ярко. Вот кому не нужна психотерапия после страшного кино! А теперь вопрос: мог бы ты прожить в тишине собственной головы, где не показывают даже трейлеров?

Почему ненавидеть — не то же самое, что злиться: Чёрное и белое без полутонов
Психологи наконец-то разобрались с одной из самых странных загадок современности: почему люди путают злость и ненависть, считая, что это просто разные степени одного и того же чувства. Но, оказывается, это две противоположности, которые живут по совершенно разным правилам эволюции и в поведении. Исследование, опубликованное в журнале Evolution and Human Behavior, говорит прямо: злость — это не младший брат ненависти. Это, скажем так, два разных эмоциональных предка, каждый из которых обучался выживать на своей поляне. Если хочешь договориться — злись, если хочется выжить любой ценой — включай режим ненависти. Автор работы Митчелл Лэндерс, прочно обосновавшийся в Университете Калифорнии в Сан-Диего, поясняет: злитесь вы, потому что вас недооценили. Вот вас не уважают, плюнули в душу — вы злитесь и требуете повышения курса на взаимопонимание. Злость помогает поправить свою позицию в отношениях: мол, или договаривайся, или я уйду. Ключевой термин тут — “коэффициент благополучия” (welfare tradeoff ratio) — сколько я для тебя значу по сравнению с тем, сколько ты для себя. Если вдруг выясняется, что вы оказались в конце этого списка — злость зовёт на переговоры. А вот ненависть — это уже абсолютно другая кухня. Тут речь не о том, что вас недооценили, а о том, что перед вами — кто-то токсичный, типичный вредитель. С ним разговаривать бесполезно: тут уже торг неуместен. Ненависть нужна, когда рядом реально опасный персонаж, и с ним нужно не отношения чинить, а обезвреживать угрозу любыми доступными средствами. Чтобы выяснить разницу, исследователи заставили пару сотен американцев и британцев вспоминать тех, на кого они просто злились, и тех, кого люто ненавидели. Первых просили представлять себе ситуации вроде: «я злюсь, но не ненавижу». Вторых — «вспомни самого омерзительного типа в мире». После чего испытуемые рассказывали, что именно их так взбесило — для пущей остроты переживаний. Затем участников исследовали на предмет разных стратегий поведения. Злые люди предпочитали договариваться: поговорить, объясниться, получить извинения, забыть, как страшный сон. Злой, как ни странно, хочет вернуть всё на круги своя, ну или хотя бы припугнуть, чтобы ценили больше. А вот те, кто испытывает ненависть, использовали тактику тотального уничтожения: «никогда больше с ним не заговорю», «мечтаю, чтобы его не было в моей жизни», и т. д. Удивительно: люди готовы даже во вред себе избегать объекта ненависти, лишь бы тот исчез с их горизонта навсегда. Если злость — это попытка пересчитать курс обмена в отношениях, то ненависть — это кнопка «самоуничтожение» для другой стороны. Главное — дистанция, разрушение, полная изоляция. Что интересно, когда злишься сильнее обычного, хочется уже не только переговоров, а иногда бы и «нейтрализовать» обидчика. Но даже на самых высоких оборотах злость тянет на сделки. А вот когда ненависть выходит на максимум, желание что-то чинить, объяснять или слушать исчезает, как вода из чайника. Разница не только в градусе, а вообще в направлении эволюционного ветра. Так что если кто-то на вас злится — смело просите прощения: шанс починить отношения ещё есть. А вот если с вами реально ненавидят — тут никакие цветы и шоколадки не помогут. Единственный рабочий сценарий — исчезнуть из поля зрения этого человека. Авторы честно признают: да, они изучали только США и Великобританию — а вдруг где-то в далёкой Сибири, Монголии или на Марсе всё по-другому? Или участники приукрашивали свои ответы — кто не любит слегка наврать про свои великие страдания? Но всё равно вывод один: злость и ненависть — разные звери. И моральных оценок тут нет, просто эволюция решила упаковать проблемы в разные коробки. Так что в следующий раз подумайте: человек напротив хочет с вами договориться или уже собрался бросить вас в топку своей вечной мерзлотной ненависти? Возможно, это поможет не загнать конфликт в тупик без обратного хода.
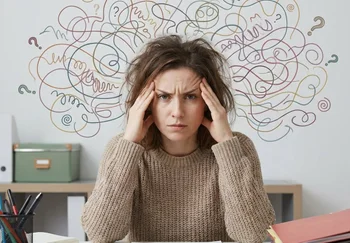
Взрослая любовь с бонусом: как ADHD превращает отношения в квест без прохождения
Взрослые с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (ADHD) хотят поддержки в отношениях так же сильно, как офисный работник – пятницы, но ощущение взаимопонимания у них обычно где-то заплутало. Недавнее исследование в Journal of Social and Personal Relationships показало: чем сильнее симптомы ADHD, тем круче внутри все закручено и тем сложнее добыть от партнера желанную помощь. Для начала напомним: социальная поддержка – это не только "ну держись, я с тобой". Ученые выделяют аж пять видов поддержки. Есть эмоции (поддержать, понять, не уехать на дачу в кульминационный момент скандала), есть валидность (напомнить, что ты вообще-то крутой, даже если собака снова съела твои документы), есть ощущение "своих" (тебя включили в компанию и не выгнали сразу), есть полезные советы и, наконец, реальная помощь – когда кто-то предлагает не только моральные, но и физические усилия (даже перевесить твой шкаф). В нормальных отношениях люди как будто бы обмениваются этими бонусами – кто-то дает, кто-то берет. Но если один чувствует, что ему вечно не достается хотя бы третьей кастрюли поддержки, это психологи называют "пробел поддержки". Обычно это приводит к унынию и разочарованию в любви. И, как выясняется, с ADHD эта дырка превращается в дыру размером с московскую пробку в час пик. Здесь почти вся наука – про "нормальных" людей, а вот про тех, кто мыслят и чувствуют чуть иначе, исследований меньше. А взрослые с ADHD и правда существуют: они иначе воспринимают мир, иначе реагируют на события. Психолог Линдси А. Дуиде с коллегами из американских университетов решила этот пробел заполнить. Они изучили, как самым сложным образом три главных симптома ADHD ломают всю логику в вопросах поддержки. Внимательность – эта та сама актерская "забыл реплику и смотрю в зал": сложно сосредоточиться, легко всё перепутать. Гиперактивность – постоянная неусидчивость, такой себе внутренний вечный двигатель, который мешает спокойно слушать даже когда надо (например, просьбы близких). И эмоциональная раскачка – когда любая неприятность умножается на десять и настроение скачет как Wi-Fi по панельному дому. Ученые набрали 286 человек с подтверждённым диагнозом ADHD и находящихся в отношениях. Каждый герой прошёл опросник, где честно отмечал: какие симптомы его достают, какую поддержку он хочет, а какую реально получает. После этого подробно рассказали – что из этого больше всего ранит. Результаты вышли в стиле "чем хуже, тем хуже": чем тяжелее симптомы, тем острее жажда буквально всех видов поддержки – особенно эмоциональной, признания, советов и реальной помощи. Но тут подкрадывается тотальная неустранимость: желания и получаемое не сходятся. Помощи хочется много – а получать удается не особо. Особенно драматично ситуация с гиперактивностью: при ней люди с ADHD будто бы перестают вообще замечать результат партнёрских усилий. Им помогают – а им всё равно кажется, что поддержки ноль. Вывод: гиперактивность не только мешает послушать, но и превращает любые попытки помочь в глухой телефон. Если человек импульсивен, партнеру вообще сложно понять, чего от него хотят: просьбы звучат, как кот-писк в наушниках. Результат – ощущение, что никто тебя не понял, даже если рядом золотой медалист в поддержке. Не забыла команда и про боль – эмоциональную, разумеется. Тут на сцену выходит эмоциональная неустойчивость: если не умеешь фильтровать чувства, обижают буквально все – даже стандартные попытки поддержки воспринимаются как нападение. Чем хуже самоконтроль – тем больше внутри боли от всяких "невинных" мелочей. Короче, ADHD делает людей сверхчувствительными к отказу – им постоянно кажется, что их не слышат или не поддерживают. Как итог, любая мелкая обида превращается в мощный душевный фейерверк. Исследование намекает: проблема не только в "поломанном мозге", как любит думать медмодель. Куда интереснее – "социальная модель": дело не только в вас, а в несовпадении между вашим стилем общения и ожиданиями партнера. Получается, что коммуникативные разрывы – общая вина двух сторон, а не только одна особенность. Бонус-новость: если с отношениями все более-менее, то и поддержки ощущается больше – даже если симптомы не отпускают. Любовь может смягчить углы, но не факт, что уберет сами проблемы. Правда, ученые честно признают: верить на слово участникам опроса можно не всегда. Кто знает: может, партнер считает, что отдаёт все силы, а второй просто не замечает. Плюс никаких доказательств, что ADHD прямо-таки вызывает пробел поддержки: тут только наблюдательная наука "картинка дня". Вывод прост: если не хватает поддержки, говорить об этом надо ясно и прямо, без загадок и ребусов. Ну и не ждать, что тебя поймут по телепатии: пока такой сервис не запустили. Так что если в отношениях обострение – может, стоит хотя бы попробовать честно озвучить свои ожидания, вместо того чтобы надеяться на чудо?

Память под напряжением: Как твой мозг запоминает обидные слова?
Когда вас в детстве называли «лузером» или, наоборот, восхваляли за успехи, возможно, это отпечатывалось в вашей памяти гораздо сильнее, чем какая-нибудь таблица умножения. Почему так происходит? Учёные докопались до этого, разложив мозг на запчасти и пропустив через него ток — без этого сегодня никуда. Верьте или нет, но внутри вашей головы скрывается настоящий район с отдельными квартирами для памяти и эмоций — район этот называется инсула (или островковая доля, если хочется изысканности). До сих пор считалось, что она — просто участок мозга, отвечающий за всякую внутреннюю чепуху: ну, типа, пощекотать вас эмоциями или напомнить, что голоден. Однако на деле всё куда интереснее: инсула, как выяснилось, — это очень даже тусовка из разномастных нейронных бригад. Итак, команда под руководством увлечённых (и, кажется, неуёмно любопытных) учёных из Стэнфорда воткнула электроды в мозги 16 бедолаг с эпилепсией (что, кстати, им тоже было кстати — ведь процедура и так показана при их заболевании). Оказалось, что так можно поймать каждую электрическую вспышку мозга с точностью до миллисекунды — ни одному томографу такого не снилось. Испытуемым подсовывали слова с разной эмоциональной начинкой: от «победителя» до «проигравшего». Одни слова грели душу, другие — царапали по самому самолюбию. Сначала люди оценивали, насколько слово для них «плохое» или «хорошее», потом считали назад (классика сбивания с толку), а после вспоминали все слова, какие могли. Когда учёные сверили показания нейронов, стало ясно: инсула — не шведский стол, где всё разбросано вперемешку, а скорее зоопарк, где кто-то отвечает за память, а кто-то за эмоции. Нашлись «горячие точки», где при угадывании запоминающегося слова менялся так называемый «апериодический показатель» — трудно перевести, но по сути это изменение фона электрической активности, не связанное с ритмами вроде альфа или бета. Если этот показатель падал — мозг готовился записать слово на твёрдый диск памяти. И именно здесь нейроны инсулы делали особый сигнал гиппокампу — той самой области, что заведует воспоминаниями. Интересно, что в этот момент в гиппокампе начиналась «рифма электричества» — острое и короткое бурление, называемое sharp-wave ripple (или остро-волновое рябь, если говорить по-научному). Учёные даже придумали для таких мест кодовое имя INSDE — по первым буквам английских терминов. Запомните, пригодится для платных кроссвордов. А вот соседние клеточные «кучки» в инсуле занимались вовсе не памятью, а сортировкой добра и зла. Там, наоборот, апериодический показатель рос, если слово вызывало сильную эмоцию — пусть даже «победитель» или «лузер». Только вот ни о каком запоминании тут и речи не шло. Самое гениальное: если долбануть током по «памятным» INSDE-участкам, гиппокамп тут же отвечает мощным всплеском — прямая линия, будто звонок директору школы. А если бить по «эмоциональным» INSIE-местам — тишина, ни тебе отклика, ни ПТСМ… Но и тут не всё симметрично: когда гиппокамп решает «послать привет» в инсулу, реакция запаздывает и размывается — похоже, работает только в одну сторону с памятью на скорость, а обратно — на расслабоне и размыто. Конечно, перед нами идеальная иллюстрация того, что мозг — это не склад картошки, а скорее стартап на фазе бурного роста: куча функциональных отделов, которые не любят друг другу мешать. Одни решают, хорошая была вечеринка или нет, другие — нужно ли запоминать вечеринку вообще. Тут есть и ложка дегтя. Во-первых, все участники были пациенты с эпилепсией, так что, возможно, их нейро-коммуникации чуть-чуть отличаются от массовых. Во-вторых, эксперимент работал только со словами — об событиях, песнях или видах Петербурга пока данных нет. Но, кто знает, разберёмся ли мы когда-нибудь, почему ругательства липнут к памяти, как жвачка к ботинкам, а тёплые слова забываются вдвое быстрее? Будем ждать, когда эти находки помогут хоть кому-то пережить свой ПТСР. P.S. Исследование провели Weichen Huang, Dian Lyu, James R. Stieger, Ian H. Gotlib, Vivek Buch, Anthony D. Wagner и неутомимый Josef Parvizi. И всё это — не ради сенсации, а просто чтобы понять, что у нас там между ушами.

Песни, которые поют наши мозги: как тексты песен незаметно берут нас в оборот
Вот вы сидите в маршрутке, в наушниках крутится какой-нибудь хит, и кажется, что слова в песнях — лишь фон для наполированного бита. Давайте признаем: все мы хоть раз уверяли себя, что текст нигде особо не оседает, максимум — залетает в одно ухо и тут же исчезает. Но наука смотрит на нашу самонадеянность с ехидной усмешкой. Свежий научный разбор, опубликованный в психологическом журнале «Psychology of Music», охлаждает наш энтузиазм. Оказывается, слова в песнях — это не просто поэтический балласт, а самая настоящая диверсия против ума, чувств и поступков. Да-да, те самые куплеты про любовь, агрессию или «где же мои семнадцать лет» могут подтолкнуть кого-то к добрым делам, убедить, что покричать на коллегу — норм, а кого-то и до романтических подвигов подгонять. Оцифрованный мир наградил нас привычкой слушать музыку без остановки — почти по три часа в день набегает. Большинство популярных жанров топчется по темам любви, тусовок, великих протестов и весёлых драк. Неудивительно, что психологи и учителя начинают нервно коситься: а не слишком ли много у подростков текстов о драках и разбитых сердцах? Тем более, юные умы эти тексты впитывают, пока сами себя ещё толком не поняли. Забавно, что слушатели продолжают уверять: «Меня такие песни не трогают». Автономия личности, мол, высокая, а ещё поклонники уверены — они с кумирами на одной волне. Авторы же исследования решили безжалостно проверить этот миф. Учёные из Испании взяли и устроили настоящее расследование: что же делает текст песни с человеческой головой? Систематический разбор с жёсткими критериями — только публикации в серьёзных журналах, только эмпирика, никакой самодеятельности. В результате после фильтрации отсеялись сотни статей — в итоге для обзора осталось 82 работы, а для метаанализа (то есть когда из кучи экспериментов собирают большой пазл) — Дальше интереснее. Выяснилось: тексты песен влияют на нас не хуже, чем стихийное бедствие — огребают наши мысли, эмоции и повадки. Причём всё идёт по сценарию песни: слушатель, зарядившийся куплетами о милосердии, чаще творит добро — жертвует деньги, помогает окружающим, поощряет официантов чаевыми. А тот, кто налёг на «боевые» или жёсткие строки, начинает чаще огрызаться, щедрее лить острый соус кому попадётся, или даже слетать с катушек в тестах на дорожную агрессию. Есть и ещё пикантные подробности: тексты с сексуальным подтекстом, согласно исследованию, увеличивают вероятность ранних и не всегда обдуманных любовных приключений у молодых. Возникает вопрос: Что может быть опаснее, чем легкомыслие под саундтрек любимого трека? Ну, и про мозг. Оказывается, тексты в песнях сильнее расхищают наше внимание, чем любая инструменталка. Попробуйте-ка после плотного прослушивания пройти тест на память — скорее всего, провалите как школьник на контрольной. Выходит, что наш мозг, даже когда мы хотим просто помечтать под музыку, вынужден тратить энергию на бессмысленный разбор куплетов. Самое большое влияние учёные нашли на эмоции. Тексты, где поётся о доброте, снижают уровень внутреннего тролля и делают слушателей чуть лучше и терпимее. Похмурые баллады тянут вниз по настроению — ну а если в песне сплошные вызовы и конфликты, жди у себя в душе стихийного бунта. Что же до взглядов на мир — тут тоже всё по нотам: тексты про равенство и справедливость понемногу воспитывают в слушателях уважение, сочувствие и умение не хамить без повода. А вот песни, где женщины — лишь красивые картинки или «инструмент страсти», только укрепляют стереотипы: после них люди смотрят друг на друга, как на экспонаты в супермаркете. Грубые треки и вовсе подкатывают уверенность, что плеваться ядом — норма, а загармонизированные тексты уменьшают любовь к насилию. Учёные отмечают: слова в песне способны шептать человеку прямо в ухо идеи, которые затем превращаются в поступки или меняют систему ценностей. И нет, это не магия — просто мы впитываем то, что слушаем, как губка бензин. Правда, никто не говорит, что если включить агрессивный рэп, то завтра вы будете метать батоны на остановке. Влияние — умеренное, но хорошо работающее с другими факторами. Значит ли это, что слушать любую лирику опасно? Нет, но теперь у вас меньше отговорок не вслушиваться в тексты. Минус этого исследования — большинство экспериментов проходило в «лабораторных джунглях», а музыка там выбиралась не по вкусу испытуемых, а строго по научным критериям. Ну и почти всегда измеряли быстрый эффект, а никак не годами спустя. Всё это значит, что в реальной жизни влияние может быть и посильнее, и куда хитрее. Исследователи надеются, что выводы подтолкнут школы и учителей не игнорировать музыку учеников, а разбирать её с умом — учить критически относиться к тому, что заходит в уши. В общем, когда в следующий раз кто-то скажет: «Да мне всё равно, про что в песне!», вспомните — наука уже сказала своё веское «ха-ха». Слушайте, но думайте!

Плейлист против Альцгеймера: как музыка может перепрошить больную память
Зачем платить миллионы фармацевтам, если у вас в плейлисте завалялась симфония Гайдна? Группа аргентинских учёных решила, что пора проверить магию музыки — если ты не можешь вспомнить, что ел на завтрак, то, может, хотя бы финал Канона Пахельбеля врежется в память получше, чем фамилия собственного внука. Исследование, достойное музыкального Оскара, провели на 186 участниках: половина пожилых, половина с диагнозом «лёгкая болезнь Альцгеймера». Результат? Старики с обеих сторон баррикад памятью не блещут, но эмоционально насыщенная музыка типа взрывных частей симфонии Гайдна оставляет в их мозгах след заметнее, чем электрошок в рекламе электрических зубных щёток. А вот если включить расслабляющую музыку вроде «Канона» Пахельбеля, негативные воспоминания чудесным образом улетучиваются — как будто их и не было. И никакой гипноза не надо. Как вода точит камень, так болезнь Альцгеймера медленно разрушает память, начиная с отделов мозга, по имени гиппокамп и энторинальная кора — не путать с начинкой для суши. Объекты и события быстро становятся неузнаваемыми, а уж вспомнить детали прошедшего дня — задача не под силу даже с детективными способностями Шерлока Холмса. На начальной стадии хитрая болезнь подкидывает сюрприз: люди с Альцгеймером беззаветно верят, что вот этот новый предмет они уже раньше видели. Учёные называют это «ложной узнаваемостью»: это когда мозгу проще притвориться другом старого знакомого, чем напрячься и вспомнить детали. И тут весь расчёт на то, что эмоциональная память сидит глубже, чем формула логарифма, даже если от последней не осталось ни следа. Эмоции — последний бастион: когда всё остальное рушится, миндалина, та самая часть мозга, что отвечает за эмоциональные фейерверки внутри нас, продолжает подавать призрачные лучики в унылом альцгеймерском царстве забвения. И вот именно музыка способна расшевелить эту глухую цитадель. В эксперименте людям показывали 36 картинок: хорошие, плохие и откровенно нейтральные — как в наборе новых обоев для смартфона. Затем три минуты кардинально отличающихся аудиотерапий. Одна группа — в вихре музыкальных страстей Гайдна, вторая — на облаке релакса с Пахельбелем, третья — мучилась под белый шум, который обычно используют в мозговыносящих IT-офисах. Дальше участники вспоминали, что видели, а через неделю проходили повторное испытание на память, но уже без музыкальных таблеток. И что же?... Старики и альцгеймерщики лучше всего запоминали эмоциональные картинки — видимо, у мозга ещё осталась тяга к драма-контенту. Но если после просмотра подпитать эмоции энергичной музыкой, обычные участники начинали вспоминать больше положительных и даже нейтральных картинок. У пациентов с Альцгеймером результаты были хитрее: число воспоминаний не выросло, зато они стали реже путать новые картинки со старыми. Получили снижение «ложной узнаваемости» — мощное оружие против той самой болезни, которая превращает все воспоминания в серую кашу. А вот тем, кому вместо Гайдна включили Пахельбеля, память о негативных картинках подзатёрлась. Учёные удивились: кто бы мог подумать, что можно забывать плохое под рояль? Ключевое открытие: эффект работает даже с незнакомой музыкой. Так что не обязательно лепить в плейлист любимый «Шахтёр из Кузбасса», чтобы тренировать память бабушки — может, Барокко даст фору даже авторским хитам 90-х. Учёные ворчливо предупреждают: эйфория по поводу музыкотерапии преждевременна, разница между группами хоть и есть, но не такая уж впечатляющая. Ещё и белый шум мог вынудить людей вспомнить что угодно, лишь бы не слушать дальше этот звуковой ужас. В следующий раз сравнят с благодатной тишиной. В сухом остатке: по мнению исследовательницы Джульеты Мольтрасио, даже дешёвые и простые методы, наподобие прослушивания музыки, могут помочь бороться с провалами памяти. Мозг перестаёт слушаться? Может, стоит попробовать музыку вместо таблеток — вдруг получится не хуже.

Под кайфом и с любовью: психоделики обещают гармонию в отношениях (если повезет с терапевтом)
Психоделики снова на коне — не только для тех, кто ищет единорогов или очередную порцию просветления, но и для специалистов, пытающихся (не верится!) улучшить нашу эмпатичность и качество отношений. Свежий систематический обзор, опубликованный в Journal of Psychoactive Drugs, утверждает, что если принимать эти вещества не на вечеринке в арендованной квартире, а под присмотром специалистов, то шансы стать чуточку душевнее друг с другом возрастают. Исследования проводила троица: Анна Брэдфорд (магистрантка Колумбийского университета), Итан Фридман (тот же вуз, только факультет социальной работы), и Рэйчел Э. Динеро (доцент и глава лаборатории социальных исследований в Le Moyne College). Они решили выяснить: а можно ли таблетками от одиночества и проблем в общении заменить нудное обсуждение чувств по пятницам под гул батарей? За последние пару десятилетий психоделики типа псилоцибина (тот самый грибной компонент), MDMA (или "экстази" — король клубных тусовок), LSD, аяуаска (спасибо шаманам!) и кетамин снова стали любимчиками врачей. Уже доказали — при депрессиях и ПТСР бывают толк и чудеса. Но вот что с близостью? Кто бы мог подумать, что ученым пришло в голову не только спасать мозг от депрессии, но и попробовать сшить разбитые сердца! Почему вообще заниматься этим? Данные за предыдущие годы невесело намекают: отсутствие хороших человеческих связей ведёт не только к тоске, но и к финишу не хуже, чем сигареты или бургерные привычки. Близость и взаимозависимость — не просто красивые слова, а фундамент нашего физического и психического выживания. Исследователи начали ковыряться в куче англоязычных научных баз (целых семь это выдержали), устремив копатели взгляд на ключевые слова обо всем – от "интимности", "сексуальности" до "псилоцибина". На старте у них в сетях оказалось 5902 статей. После фильтрации остались стоящие внимания 19 работ. Условия были просты: только статьи с результатами по влиянию на близость, опубликованные и одобренные вроде бы адекватными учеными, на английском. Немного математики: девять исследований устроили в лабораториях — там все строго, дозы известны, наблюдает доктор. Шесть из них были с плацебо — так обычно проверяют, действительно ли эффект от вещества, а не потому что кто-то просто очень хотел обнять кого-нибудь рядом. Десять же опирались на рассказы счастливцев и не очень — как там кому "открылось" в бытовых условиях, на тусовках и ретритах. Выяснилось забавное: терапия под присмотром врачей работает, как надо. В семи из девяти лабораторных исследований участники отмечали, что стали лучше общаться, больше доверять и даже реже ссориться. Одна работа отметилась особо — под MDMA участники говорили в тестах чаще и ярче о своих эмоциях. Псилоцибин выиграл битву даже у антидепрессантов: после терапевтического курса люди дольше чувствовали себя связанными с окружающими. В парных исследованиях, где один мучился ПТСР, краткосрочная терапия MDMA помогла обоим супругам ощутить прилив счастья и доверия. Сходная динамика проявилась среди взрослых с аутизмом — после терапии они меньше боялись новых знакомств. Для выживших после СПИДа группы сессии с псилоцибином снижали тревогу от возможной утраты близких, хотя у тех, кто и так почти не допускал к себе других, эффект мог быть обратным. Но как только психоделики уходят из лаборатории в народ, на горизонте вырастает гидра побочных эффектов. Да, шесть из десяти "естественных" исследований описывают чувства тотального единения, эмпатии и лавины любви — особенно в коллективных церемониях, где "коммунитас" (дух общности) мог сохраняться неделями. Но четверка работ скинула в копилку и обратное – некоторые после трипов стали подозрительнее, тревожнее и отчужденнее; находились и те, у кого после "химсекса" интимные отношения только ухудшались. Ещё свежий пример: смешивание в ритуале низких доз MDMA с псилоцибином или LSD сопровождалось усиленным ощущением любви, но от одиночества людей эта алхимия не спасала. Главный вывод — вся суть в месте проведения и наличии трезвомыслящего специалиста. Без терапевта во главе и этических норм может дорасти до новых душевных травм: психоделики делают человека по-особенному уязвимым для внезапных "откровений" (и манипуляций). Всё это напоминает совет: если собрался чинить психику, не начинается это в квартире с немытой посудой, а лучше — в кресле у умеющего слушать врача. Есть, конечно, и минусы: во многих исследованиях полагались на память участников, а память, как известно, бывает такой, что после вечера с друзьями и свою фамилию вспомнить трудно. Само понятие "интимность" у каждого научного коллектива своё: кто-то тесты дает, другие — просто разговор ведут. И всё же суть понятна: психоделики в сопровождении профессионала — потенциальное лекарство не только от депрессии, но и от одиночества. Да, опасности велики, и истерия вокруг "колес" ещё крепка. Но, как и с любыми лекарствами: не знаешь дозу — ждёшь беды. Авторы обзора надеются, что их работа зажжёт новую искру интереса — уже к качественным исследованиям, а не к новым поводам для вечеринок.

Смартфонозависимость под микроскопом: почему «отложить телефон» труднее, чем кажется
Ничто так не сближает молодых людей XXI века, как болезненное ощущение, что где-то мимо них сейчас проходит что-то ужасно важное, а их телефон вот-вот разрядится. Если кажется, что вы не можете выпустить смартфон из рук — успокойтесь, с вами всё в порядке... точнее, вас тысячами уже изучают нейроучёные и психологи. Свежайшее исследование команды под руководством профессора психологии Тяньцзиньского педагогического университета Qiang Wang доказывает: за тем, насколько сильно вы зависите от телефона, стоят вполне конкретные детали строения и работы мозга — а не только пресловутая «слабая сила воли» или очередная «болезнь цивилизации». Итак, поехали во внутренний карнавал головного мозга. Ключ к смартфонозависимости — так называемая сеть пассивного режима работы мозга, которая активна, когда вы мечтаете или предаетесь самокопанию. Учёные выяснили, что строение передней части этой сети великолепно предсказывает, насколько сильно вы будете страдать от страха что-то пропустить (FoMO — fear of missing out) через месяцы, а то и годы. Ну а вот задняя часть этой нейронной закрутки напрямую связана с негативным настроем и склонностью залипать в депрессии или тревоге — что опять же приводит к судорожному хватанию за смартфон. То есть, если ваш мозг решает: «вдруг что-то интересное случится вне моего поля зрения!», он тут же подсовывает вам гаджет. Если же вы внутренне грызёте себя за всё плохое и тревожитесь — снова спасительный свет экрана помогает ненадолго не думать о грустном. Разделение почти арифметическое: одни нейроны отвечают за страх остаться за бортом тусы, другие — за настроение вплоть до клинического «как всё плохо». Команда Wang провела сканирование мозгов 282 юных взрослых из разных китайских вузов, оценивая архитектуру серого вещества и уровень синхронности работы различных областей. К ним добавили опросники по симптомам телефонной зависимости, тревожности и разочарования жизнью. Затем участников мучили повторными тестами — от пяти месяцев до пяти лет спустя. Особо расчётливые исследователи ещё и гены подключили, использовав данные о выраженности «телефонозависимых» генов из Atlasa мозга Аллена. Оказалось, что эти самые гены особо активны у малышей и подростков — то есть период, когда мозг только формирует свои крючки для радуги дофамина, критичен для появления будущих аддикций. Кстати, если верить этим учёным, мозг любит устраивать «разграничение полномочий»: за желание не отставать от своих и проверять телефон сто раз на дню отвечает одна зона, а за желание залипнуть в смартфоне из-за внутренней тоски — совсем другая. И всё это упаковано в биологическую обёртку с красивым бантиком сложности: гены, отвечающие за передачу сигналов между нервными клетками, тут играют роль дирижёра этого цирка эмоций и тревог. Но прежде чем бежать за томом Фрейда и самоуверенно причём тут свои детские травмы — учёные предупреждают: влияние этих факторов статистически невелико, и в одиночку они не решают судьбу вашего телефона или социальной жизни. Всё упирается в общее взаимодействие – мозг, эмоции, общество, ваши личные тараканы, всё смешалось. Кстати, о справедливости: когда взрослые ругаются на «залипание в телефон», они забывают, что смартфон — давно не игрушка, а жизненно необходимый инструмент для учёбы, работы и общения. Чёрно-белого деления на «болезнь» и «норму» тут, увы, не получится. Вас зовут не на исповедь, а к саморефлексии. Что делать? Обращайте внимание на собственное психоэмоциональное состояние: чем выше уровень тревоги или страха что-то упустить, тем крепче умственные узы с телефоном. Учёные страстно призывают не к моральным расправам и не к борьбе поколений, а к милосердной профилактике: не тотальные запреты, а разумное воспитание эмоционального интеллекта, поддержка социальных навыков и грамотная архитектура цифровой среды. Теория понятна: если уж и бороться с телефонной зависимостью — то не криком из 90-х «отбери гаджет», а работой с причинами, а не следствиями. Так что в следующий раз, когда окажетесь в поздний вечер лицом к лицу с тусклым экраном, вместо самобичевания задумайтесь: не ваш ли мозг сейчас проверяет, все ли друзья ещё с вами, и не стоит ли решить проблему с эмоциями старыми добрыми методами — например, поговорить с кем-то вживую...

Улыбайся, пока шерсть не осыпется: как наши питомцы делают нас слаще сахарной ваты (и даже в их отсутствие)
Ученые всерьёз занялись вопросом: правда ли домашние животные способны не просто качать нам лапы, но и улучшать наши отношения с партнерами и друзьями? И вот, наконец, есть кое-что посвежее, чем очередные «питомцы против стресса»: исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало интересный «эффект послесвечения» — да-да, домашние любимцы способны подарить вашей паре порцию счастливых улыбок и смеха, причём даже после того, как хвостатый ушёл по делам. «После» – это не опечатка: позитивный эффект от пушистых (или не очень) организмов не исчезает вместе с их вытянутым хвостом за дверь. Стоит вам чмокнуть Фузика по макушке в присутствии партнёра — и ваше настроение заряжается, как телефон после ночи у розетки. Причём заметнее всего это работает у влюблённых пар, но и друзья не остаются в стороне (хотя у них эйфория уходит вместе с шерстью под диван). Почему же раньше у ученых были настолько путанные результаты о влиянии животных на счастье? Потому что все гонялись за фактом наличия питомца, а не за реальными жизненными ситуациями — как, когда и с кем вы обнимаете пушистое создание. Команда исследователей, во главе с психологом Ece Beren Barklam из Kingston University London (если кому интересно — университет в Лондоне, а не городе-соседе Тулы), решила посмотреть на всё глазами реалити-шоу, но без голосования и холостяков. Они собрали 164 человека, разбили их на пары влюблённых (37 пар) и хорошие друзья (45 пар). Кто-то из участников имел домашнего питомца, кто-то нет, и вот тут начинается самое интересное: половина счастливых обладателей хвостов приносила своих собак или кошек на сессию, остальные — играли с большим плюшевым псом (почти как реальный, только не писает в тапки). Не имеющие в активе Фузика и Барсика тоже вынужденно контактировали с этим многострадальным плюшевым псом. В итоге учёные сравнивали — кто, сколько и как искренне улыбается с настоящими питомцами и их мягкой пародией. Эксперимент строился из трех пятиминутных мини-сценок: пара сначала просто общалась, потом добавляли питомца (или игрушку), а затем вновь оставались вдвоём. Всё фиксировалось на камеру (но без красных дорожек и папарацци), а затем специалисты сидели и кодировали каждый чих и смешок по специальной программе OHAIRE-v3, отмечая позитивные эмоции вроде улыбок и хохота. Ещё измеряли настроение участников до и после каждого этапа. Что вышло в сухом остатке? Наличие настоящего пушистика явно вызывало больше весёлых гримас, чем сиденье рядом с чучелом игрушки из Икеи. Эффект был особенно заметен на второй сессии, когда питомец был «на сцене», но самое поразительное — у влюблённых пар заряд хорошего настроения сохранялся и после ухода животного. Что касается друзей, их эффект длился ровно столько, сколько кот или собака разгуливали под ногами — ушёл хвост, ушёл и эффект. Причём даже наличие одного лишь «питомца понарошку» (той самой игрушки) у владельцев настоящих животных вызывало немного больше позитивных эмоций, чем у людей, не знающих, кто такой Фузик. Похоже, у таких людей есть «когнитивное присутствие» питомца — они мысленно разговаривают с Чарли и вызывают у себя всплеск хорошего настроения без реального участия зверя. С друзьями всё проще — эмоции поднимаются только когда зверушка здесь и сейчас, исчезает пушистый — и вместе с ним растворяется и весь эффект. Уровень настроения у всех с начала эксперимента подрос, что неудивительно — редкий день, когда тебя просто просят пообщаться и погладить животное! У друзей с живыми пушистиками радость росла ещё сильнее, в отличие от тех, кто трогал только плюшевую копию. У пар динамика была не столь очевидной, но новые улыбки всё же задерживались у тех, кто был с питомцем. Забавная находка: никто не заметил, что наблюдаемые действия с животным — вроде поглаживания или кормёжки — как-то влияли на проявление позитива. А вот личная оценка того, насколько животное «включилось» в общение, напрямую увязывалась с улыбками и смехом. Походу, важнее субъективное ощущение контакта, чем реальное количество угощений. Из любопытного — отличный самочувствия (well-being) не коррелировало напрямую ни с наличием питомца, ни с привязанностью к нему. Но у людей без животных те, кто вообще тепло к зверям относится, были более довольны своими романтическими отношениями. А у хозяев питомцев те, кто воспринимал Фузика как замену людям, так же радовались личной жизни от души. В сухом остатке: пушистые хвосты действительно способны вплести в ваш день искру позитива, причём иногда эффект держится дольше, чем следы лап на полу. Главное — не забывайте, что это не волшебство, а крохотная социальная алхимия: когда любимый человек и лохматое чудо сходятся в одной комнате, жизнь становится чуть менее абсурдной. Жаль, в исследовании участвовали в основном счастливые пары и довольные дружбаны — осталось проверить, выдержит ли мордаха Барсика испытание сложными отношениями или ожесточенными семейными скандалами. Но пока выводы таковы: если настроение на нуле, просто позовите кота (или хотя бы пофантазируйте о нем) — и кто знает, вдруг ваша пара засияет, а дружба заиграет новыми красками.

Лимбическая система на минималках: что происходит с мозгом у детей с СДВГ?
Недавно опубликованное исследование заставляет по-новому взглянуть на мозги наших неугомонных, вечно суетящихся и страдающих от нехватки внимания граждан — детей и подростков с диагнозом СДВГ (самое скучное объяснение: синдром дефицита внимания и гиперактивности). Как выяснили исследователи из Trinity College Dublin, у этих ребят с самого раннего возраста наблюдаются весьма стабильные сбои в работе лимбической системы — той самой части мозга, которая рулит нашими эмоциями, контролем импульсов и вообще тем, что мы называем «здравым смыслом». Что характерно, это не временами возникающая аномалия, а, можно сказать, встроенная особенность — мозг проводит детство и подростковый период так, будто ему выдали не самый свежий кабель для внутренней проводки. Исследователи уточняют: раньше все внимание уделяли коре головного мозга (например, лобным долям, что отвечают за внимание), а вот про лимбическую систему вспоминали редко. Как выяснилось, зря. Именно она регулирует наши эмоции, связывает их с размышлениями (а не только с внезапным желанием бегать по потолку), отвечает за настроение и контроль поведения. Неудивительно, что у людей с СДВГ именно эти функции чаще всего барахлят. В рамках масштабного и занудно-методичного (как иначе в науке?) исследования ученые изучали 169 детей и подростков 9–14 лет. 72 из них имели подтверждённый диагноз СДВГ, остальные служили контрольной группой — то есть были такими, какими их обычно рисуют в рекламе, где дети мирно едят кашу и слушаются взрослых. Всех гоняли по МРТ трижды — с интервалом в полтора года — и внимательно рассматривали, что у них там в составе белого вещества лимбической системы. Тут вступает в игру жутко умное словосочетание: "диффузионная куртозисная томография" (если вы не знаток медицинских технологий — не мучайтесь, достаточно знать, что она позволяет детально разглядеть, как вода бегает между нервными волокнами мозга). Главный показатель — куртозисная анизотропия: чем больше это значение, тем лучше ваши нервные связи изолированы и, соответственно, работают без перебоев. Что обнаружили? У детей с СДВГ показатели этого самого белого вещества — ниже, и стабильно ниже, чем у благополучных сверстников во всех трёх замерах. То есть стартуют они с невыгодной позиции и, как бы ни старались, к остальным не догоняют. Впрочем, число и эффективность самих связей в лимбической системе целиком особой разницы между группами не показали. Но если копнуть глубже и посмотреть на тяжесть симптомов у конкретных детей с СДВГ, то там уже становится ясно: чем хуже показатели связности и маршрутизации сигналов, тем тяжелее проявляются симптомы — от слабой концентрации до эмоциональных срывов. Это лишний раз доказывает: СДВГ — не черно-белый диагноз, а целый цветной градиент особенностей, которые могут проявляться по-разному. Авторы аккуратно замечают: увиденные мозговые аномалии — довольно мелкие, для диагностики по МРТ этого явно мало. Но даже крошечные отличия в таких вот распределённых по системе цепочках могут резко менять общую картину среди реальных детей из плоти и крови, а не из инструкций по психиатрии. Любопытно, что разногласия по поводу самой лимбической системы не дают учёным спать спокойно: анатомия этой части мозга до сих пор вызывает споры — кто-то считает одни зоны частью лимбики, кто-то отсекает их "по живому". А ещё, как оказалось, если бы исследовали детей постарше или младше, итоги могли бы поменяться: кто-то из подростков с СДВГ всё-таки догоняет сверстников позже. Но учёные — народ упорный. Они собираются проследить за этой мозговой эпопеей буквально год за годом, чтобы докопаться до того самого момента, когда мозг либо "выправится", либо решит, что раз затеяно СДВГ — значит, проживём как есть. Вывод? Если вы считали, что всё дело в "лени" или "избалованности", вам пора познакомиться со своим собственным лимбическим лобби. А дети с СДВГ — это не просто ураган в шортах, а люди с особой (и очень устойчивой) мозговой схемой. Авторы исследования: Michael Connaughton, Alexander Leemans, Timothy J. Silk, Vicki Anderson, Erik O’Hanlon, Robert Whelan, Jane McGrath. Исследование опубликовано в Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Почему мы уходим: наука объясняет разрыв отношений без розовых очков
Когда кажется, что разрыв — это вспышка эмоций и неутолённая драма где-то на кухне, новые исследователи советуют не спешить с выводами. Наука говорит: уходят не по щелчку и не только из-за измены (чего нам уж только не показывали в сериалах). Нет, решение расстаться — штука обдуманная, суровая и гораздо сложнее, чем кажется. Ведь тут завязаны мотивации, эмоции и даже чужое одобрение. В журнале The Journal of General Psychology свежее исследование лишний раз убедило: когда пара распадается, это почти всегда акт сознательный, и строится он на приличном пучке факторов. Забудьте о примитивных версиях про несовместимость по гороскопу. Тут авторы Анна М. Семанко и Верлин Б. Хинс взглянули на расставание так, будто это не просто ссора из-за вчерашней каши, а целая шахматная партия с участием внутренней логики, социальных правил и эмоциональных стоек. Психологи указывают: раньше наука любовно ковырялась в том, почему пары держатся вместе — мол, страх одиночества, общая ипотека и кот. А вот почему всё же люди собирают в сумки любимые футболки и уходят в ночь — этот вопрос оставался обделённым вниманием. До сегодняшнего дня! Исследователи вооружились серьезной теорией — и не одной, а сразу двумя: моделью обдуманных действий и теорией межличностного поведения. Обычно эти подходы объясняют решения типа: сменить работу или завести ребенка — а теперь и расставание мигрирует в этот интеллектуальный список. Давайте разберёмся — почему современный человек всё же уходит? Модель говорит: решение зависит не только от вечеринок и разбитых сердец, а от целого коктейля — отношения к самой идее разрыва, убеждённости в своей правоте, понимания, что друзья поддержат, и чувства: "Да, я на это способен". Но этого мало! Теория межличностного поведения добавляет в кастрюлю самоощущение, привычки (да, кто-то расстаётся по накатанной), моральные принципы и твоё внутреннее "я". Не только голова, но и сердце, и социальные установки, и то, как привык идти по жизни. Ещё авторы указывают: часть людей наперёд проживает эмоции. Представьте, вы заранее жуёте будущий хандру, вину или, наоборот, готовитесь к эйфории. Всё это влияет на решение. Для кого-то главное — что скажет коллектив: "ненормально, что опять расстался" или, наоборот, "давай уже, зачем терпеть". Важную роль играют такие банальные факторы, как возраст, религия, даже бейджик с типом личности. Не напрямую, а через цепочку: убеждения влияют на эмоции, эмоции — на действия. И, главное, привычки. Если у человека за плечами уже парочка эффектных личных финалов, следующий разрыв может быть вовсе не трагедией, а частью стиля. Кто-то, наоборот, держится за отношения, как за спасательный круг: отождествляет себя именно с парой. Авторы не поленились: расписали примеры из реальной жизни. Вот человек думает — "буду свободен, заживу" — и уже готов хлопнуть дверью. Но что-то там внутри шепчет: будет тяжко, будешь скучать — и намерение пропадает. Тут же вмешиваются друзья: порицают или наоборот хлопают по плечу, и план меняется. А если уж решил — то помогут конкретные шаги: например, не скандал в переполненном кафе, а тихий разговор дома. Исследование концептуальное — то есть учёные пока не провели опросы, они предложили теоретическую модель, собирая сведения по крупицам из существующих работ. Поэтому окончательный вердикт о том, что чаще всего провоцирует разрыв, ещё впереди. Кроме того, авторы честно признают: всё это знание работает по-разному в разных культурах. Где-то принято долго мучиться, где-то разрывы поставлены на поток. Будет интересно узнать, как разные народы переживают потерю "второй половинки". Тем не менее, эта схема может стать спасательным кругом для тех, кто раздумывает: уходить или остаться, а также подсказкой для психологов. И кто знает — быть может, она пригодится не только для романтических финалов, но и для ухода с нелюбимой работы или дружбы, выдохшейся ещё в прошлое десятилетие. Потому что кто сказал, что только любовь — поле для великих решений?